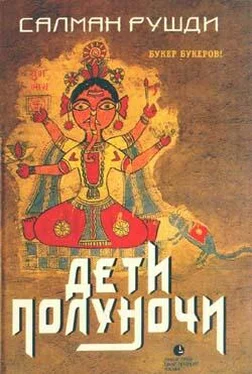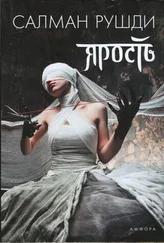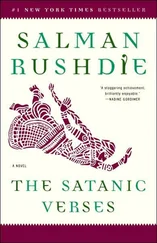Прачку Дургу я упоминаю более всего потому, что именно она как-то вечером, во время ужина, когда на каждого пришлось по тридцать семь зернышек риса, первой предсказала мне мою смерть. Я, выведенный из терпения бесконечным потоком новостей и сплетен, вскричал: «Дурга-биби, кому интересны ваши россказни!» А она ответила невозмутимо: «Салем-баба?, я к вам по-хорошему, потому что Картинка-джи говорит, будто вы в тюрьме всякого натерпелись; но, по правде говоря, сейчас-то вы просто бездельничаете, лодыря гоняете. Сами должны понять: когда человеку неинтересно слушать, что вокруг происходит нового, он открывает дверь Черному Ангелу».
И хотя Картинка-Сингх произнес примиряюще: «Ладно тебе, капитанка, не сердись на парня», – стрела, выпущенная прачкой Дургой, попала в цель.
Исчерпавший силы, осушенный, я чувствовал по возвращении, как пустота дней обволакивает меня плотной и вязкой пеленой; и хотя наутро Дурга, возможно, искренне раскаиваясь в своих жестоких словах, предложила мне, дабы восстановить силы, пососать ее левую грудь, пока мой сын приник к правой – «может, это прогонит дурные мысли прочь» – знаки бренности и упадка заполонили мой ум; а потом я обнаружил зерцало смирения в автобусном парке Шадипура и окончательно убедился, что кончина моя близка.
То было кривое зеркало, установленное над въездом в ангар; когда я бесцельно шатался по автопарку, внимание мое привлекли мигающие блики, солнечные зайчики. Я вдруг осознал, что много месяцев, может быть, лет не смотрелся в зеркало, пересек площадку и остановился у двери ангара, прямо под ним. Поглядев наверх, в это зеркало, я увидел себя преображенным в большеголового, с тяжелым торсом карлика; униженное, укороченное отражение показало мне, что волосы у меня седые, словно дождевые облака; карлик в зеркале, с лицом, изборожденным морщинами, и усталым взглядом, живо напомнил мне моего деда Адама Азиза в тот день, когда он объявил всем нам, что видел Бога. В то время все напасти, изведенные под корень Парвати-Колдуньей, снова (вследствие дренажа) воротились, чтобы досаждать мне; девятипалый, с рожками на лбу, с тонзурой монаха, с родимыми пятнами на лице, кривоногий, нос-огурцом, оскопленный, а теперь еще и преждевременно постаревший, я узрел в зерцале смирения человека, которому история уже ничего не может сделать – гротескное существо, которое рок, давно исчисленный, исколотил до потери чувств да и выпустил на волю; здоровым и тугим ухом услышал я, как шествует ко мне тихими стопами Черный Ангел смерти.
На молодом-старом лице карлика в зеркале появилось выражение глубокого облегчения.
Что-то я становлюсь слишком мрачен; пора сменить тему… Ровно за двадцать четыре часа до того, как насмешка парня, продающего пан, подвигла Картинку-Сингха на поездку в Бомбей, мой сын Адам Синай принял решение, позволившее нам сопровождать заклинателя змей в этом путешествии: в одночасье, без предупреждения, к вящей досаде кормилицы-прачки, которая вынуждена была сцеживать оставшееся молоко в пятилитровые цилиндрические контейнеры, лопоухий Адам сам отлучил себя от груди, безмолвно отказываясь сосать и требуя (тоже без слов) твердой пищи: рисовой каши-разваренной лапши-печенья. Он словно бы решил позволить мне подойти к моей собственной, теперь уже очень близкой, финишной прямой.
Немая автократия почти-двухлетнего ребенка: Адам не говорил нам, когда он голоден, или хочет спать, или желает отправить свои естественные надобности. Он ждал, пока мы догадаемся сами. Постоянное внимание, которого он требовал, было, наверное, одной из причин того, что я, несмотря на все признаки упадка и гибели, оставался жив… неспособный после моего освобождения ни на что другое, я только и делал, что наблюдал за своим сыном. «Говорю тебе, капитан: хорошо, что ты вернулся, – шутил Картинка-Сингх, – иначе этот мальчонка всех нас превратил бы в нянек». Я лишний раз убедился, что Адам принадлежит к следующему поколению волшебных детей, которое будет гораздо крепче первого – не искать свою судьбу в звездах и пророчествах станут они, а ковать ее на безжалостном огне непреклонной воли. Вглядываясь в глаза этого ребенка, который одновременно не-был-мне-сыном и был моим наследником в большей мере, чем могло бы быть любое дитя, рожденное от моей плоти, я находил в его пустых, чистых зеницах второе зерцало смирения, и оно показывало мне, что с этих самых пор роль моя становится второстепенной, как и у всякого никому не нужного, велеречивого старца: традиционная роль хранителя воспоминаний о прошлых днях, рассказчика-истории… интересно, подумал я, тиранят ли так же беззащитных взрослых другие бастарды Шивы, рассеянные по всей стране, и вторично предстало перед моим внутренним взором племя устрашающе могучих детишек: они растут, ждут, прислушиваются, предвкушая то время, когда весь мир станет для них игрушкой. (Как можно будет впоследствии распознать этих детей: их пупки, их бимби, выпирают наружу, а не вдавлены внутрь).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу