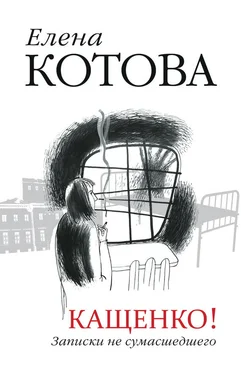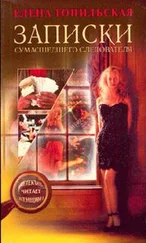Наутро он позвонил сыну сказать, что через три месяца тот может переехать на дачу и жить там хоть с бабой, хоть с кем, а пока придется потерпеть. Не удержался и добавил: «Если хочешь, приезжай, только без своей бабы. Познакомлю тебя с моей будущей женой». Сын опешил, пустился в расспросы, вечером прикатил, опешил снова, они ужинали втроем, ему было трогательно видеть, как Лиза старается понравиться сыну. Тот, косясь на Лизу, расспрашивал о матери, а он рассказывал сыну, что матери нужен платный психиатрический интернат, лучший, где будут гарантированы уход и отсутствие психов вокруг. Надежды, что к ней вернется способность двигаться, а главное – разум, нет, значит, интернат – единственно верное решение. В первую очередь для нее самой. Забвение реальности – не мука. Мука – это несовместимость причуд ее разума с жизнью. Ему легче было говорить это сыну, чем самой Лизе, он не предавал жену, а лишь прощал сыну предательство, которое тот уже совершил.
Все затянулось, сначала он искал интернат, потом лучший дом престарелых для тещи. Оплачивать интернат, содержать сиделок и домработниц тещи и еще купить для них с Лизой новую квартиру было слишком дорого, даже для него. Конечно, с дачи он съезжал не ради сына, но жить с Лизой на даче, которую они почти три года, почти в согласии, почти с любовью обустраивали с женой, ныне живым покойником, было чересчур. Он видел, как это несправедливо по отношению к Лизе. Она ежедневно натыкается на шампуни, притирки и лосьоны жены, заполонившие все три ванных, обходит стороной шкафы с ее одеждой. Она такая деликатная, развесила с полдюжины своих вешалок, зацепив их за обшивку стены необитаемой японской комнаты, и разложила трикотаж и бельишко в коробки из ИКЕИ, стоявшие в ряд на полу. От этого его переполняло чувство вины за то, что он все откладывает начало их жизни, и казалось, что лишь она туманит по утрам брызжущую из-под сомкнутых век радость. Он гнал эту тягость от себя, искал Лизонькино тело, бормоча спросонок «мой маленький…», а Лиза, комкая простыни, прижималась к нему, смотрела на него с восторженной улыбкой, чтобы он видел, как она счастлива. Она прижимала к себе его громоздкое тело, шептала, что хочет закрыть его собой от мира, чтобы он… только так, что это – навсегда.
Продав квартиру на Остоженке, он купил трешку в доме на углу Проточного переулка, рядом с метромостом, но с видом на реку и терпимым ремонтом. Устроил Лизу в ведомственную больницу, спокойную, без ада агоний в реанимации. Он продолжал летать и знал, что это не может быть правдой, ведь люди не летают, и это, конечно сон. Но неизбежность пробуждения уже не страшила безысходностью. Когда он проснется, то просто окажется в том будущем, которого раньше у него не было.
Пришла зима, он теперь мотался в интернат к черту на кулички – сто километров от Москвы – раз в неделю, чтобы в интернате знали, что он жену не бросил, а за персоналом есть присмотр. Вечерами засиживался по привычке на работе, поражаясь, что не никто не обрывает телефон, что дома не ждет истерика, и предвкушая позднее возвращение к Лизе в долгую, принадлежащую только им, ночь.
Он стал снова приводить иногда домой приятелей с работы, чего не делал уже давно, потому что было стыдно за жену, у которой на лице было написано, что его друзья – мерзавцы и продадут ее мужа за понюшку табаку, особенно душа общества Вася, блондин с седеющей бородой. Это не мешало жене напиваться, ронять слезы в тарелку и тыкаться, ища сочувствия, в Васино плечо. Сейчас, выходя с мужиками из лифта, он знал, что Лиза уже накрыла стол, а в ее глазах, когда она откроет дверь, будет стоять изумление от нечаянного праздника. Он любовался тем, как старательно она смеется шуткам, как показывает всем, что счастлива, – взглядом, поминутными прикосновениями к нему, – как смущается от чуть насмешливого и такого откровенного внимания мужиков, как тянется, потупив глаза, чтобы не встретиться с ними взглядом за Васиной пепельницей, полной окурков «Данхилл».
Конечно, это была измена не жене, а всей прошлой жизни. Утратившей привлекательность, больной и постылой. Он не заметил, как пришло лето, он просыпался с Лизонькой от раннего рассвета, и даже, когда они размыкали объятья, еще было неприлично рано. Он полюбил рассказывать Лизе по утрам сказки, которые придумывал на ходу, она толкала его – как не стыдно, заснул, на самом интересном, похрапывает даже. Он просыпался, снова сжимал ее чуть полноватые бедра, зарывался в ее живот, а потом они, уже вместе, еще раз уплывали в сон, пока не наступал день.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу