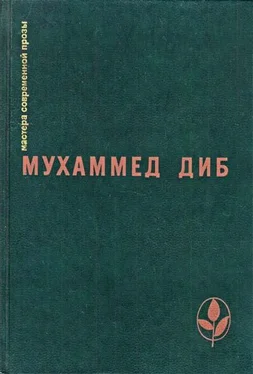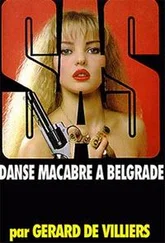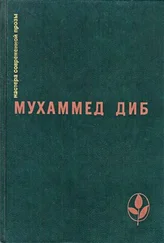— Я не особенно разбираюсь в политике. Может быть, я и не прав.
— Разумеется, — отвечает он.
Солнце уже какое-то время изливает жар на сад префектуры. Шторы на окне не в силах ослабить натиск безжалостного света.
В этом свете тревога. Я смотрю на него. За всем этим непременно что-то есть, что-то другое. Одному дьяволу известно, что скрывается в этой ненависти.
— Неужели Маджар и его люди действительно так уж опасны?
Он отрывает ладони от стола и, отступая назад, держит их перед собой, словно делая гипнотические пассы.
— Они сеют беспорядки! Вот в чем их преступление. И преступлением было бы позволить им подорвать то, что было достигнуто ценою великих жертв. За смерть каждого павшего алжирца… Было бы преступлением предоставить безответственным, но, учти, отнюдь не безобидным крикунам свободу заниматься вредительством.
Есть какая-то сила, посылающая свет сюда, в этот кабинет, начиняющая его тревогой.
— Преступлением было бы дать им слишком много воли.
Мне нехорошо. Жжет стыд за подобную мысль. Что это на меня нашло? Но прогнать ее не удается.
Я смеюсь, чтобы избавиться от тревоги («безответственные, безответственные» — он что, не знает других слов?), но она, отступив на шаг, набрасывается на меня с удвоенной силой. Я испытываю дурноту, как если бы ступил в темноте на уходящую из-под ног ступеньку.
— Смею надеяться, что ничего не случится.
Я произнес это небрежным тоном. Понял ли он? Он хмурит брови — значит, не понял. Я говорю:
— С нищенствующими братьями.
Слышно, как снаружи, в саду, поливают. Доносятся запахи земли, мокрой листвы, пыли. А вдалеке, на башне муниципалитета, бьет десять часов.
Мне тревожно за того, кто стоит напротив меня.
Он говорит:
— Лучше бы тебе в это не соваться.
Эмар говорит:
Можно подумать, мне только и радости что слоняться по комнате. Но собираться не лежит душа, вот я и слоняюсь.
Она повсюду — в воздухе этой комнаты, в свежести утра за окном. Я ничего не делаю. Не хочется. Только расхаживаю.
Карима. Она нарушила равновесие, спокойствие этого летнего утра в первую же секунду, как появилась. И еще раз — когда исчезла, взметнув край платья босыми ногами. Был располагающий к работе и раздумью светлый покой. И все это рухнуло в короткий промежуток утра: до и после сверкающей секунды ее появления. Эти два куска — до и после — все никак не срастутся.
Я прохаживаюсь. Спрашиваю себя: собираться? Мне жаль тебя, Жан-Мари Эмар. К черту!
Раздумчивый светлый покой. Я прохаживаюсь. Хватаю за хвост первую попавшуюся мысль. Я почти не видел Камаля Ваэда с прошлого лета. Прошлое лето — любопытно, а?
В этой девчонке все забавно. Чертовски. В один прекрасный день Камаль Ваэд стал невидимкой. Это тоже забавно, разве нет?
И не поймешь, как это случилось. Чего это ему вздумалось играть в привидения?
Впрочем, все произошло не совсем так. С тех пор мы все-таки виделись — раза два, а может, три. Но совершенно случайно, почти что по недосмотру. Но даже случайно (или по недосмотру) самое трудное в этом городе — это не желать встречи с кем-то, когда тебе это хочется, то есть когда не хочется с ним встречаться. И когда, даже случайно (или по недосмотру), ты встречаешься с ним, это почти все равно как если бы ты назначил ему встречу в определенном месте, выбранном по обоюдному согласию, — обычно в кафе — и в определенное время. Вот когда он начал становиться неуловимым, как дуновение ветра.
Теперь каждый день одно и то же. В этот час воздух вдруг густеет. Все из-за жары. Он не тяжелеет, нет, а наливается зноем. Комната оказывается словно бы в тени печки.
Два куска утра уже не соединятся. В одном из них Карима, в другом — я. А между ними — день, уже ставший пеклом. Те девушки, которых я видел во время первого визита к госпоже Ваэд, как и Карима, казалось, несли с собой свежесть лугов и полей. Это было на следующий день после моего приезда. Складки длинных платьев точно так же били их по лодыжкам. В дворике вода бассейна заигрывала с безмятежным днем. Казалось, они старались очаровать друг дружку Такое я видел впервые. И тут увидел госпожу Ваэд. Я прохаживаюсь. Камаль Ваэд тотчас стал неуловимым.
Когда я это понял, было уже слишком поздно, время прошло, Брешь во времени разрастается быстрее, чем успеваешь об этом подумать, и очень скоро становится незаполнимой.
Последние встречи — две или три, да и какая, впрочем, разница сколько, — состоявшиеся в конце прошлого лета, Камаль был явно не расположен продлевать. Держался он по-прежнему доброжелательно, даже добродушно, но было в его поведении нечто наигранное, уклончивое. Сохранил он и прежнюю веселость, но и она была какой-то принужденной. Впоследствии же, сколько я ни искал встречи с ним, все мои попытки наталкивались прямо-таки на фатальную невозможность.
Читать дальше