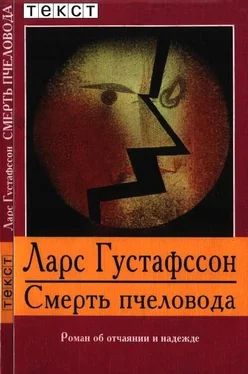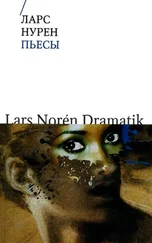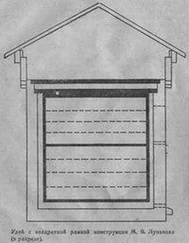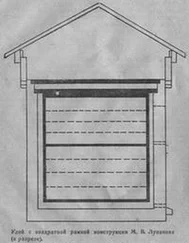Последняя упсальская весна успела миновать, начиналось лето. Горожане в большинстве разъехались, а я остался, потому что получил работу — преподавал шведский студентам-иностранцам, — и даже переехал в центр, в переулок Бевернс-Гренд, совершенно случайно — уехавший на лето сокурсник сдал мне свою комнату.
Она пришла вместе с подругой, и мы устроились на веранде маленького уличного кафе рядом с собором, называлось оно, кажется, «Домтрапп-челларен». До сих пор как сейчас помню газетные заголовки в табачном киоске напротив, речь шла о каком-то новом сложном этапе борьбы за пенсии, которая в ту пору, в конце пятидесятых, носила особенно ожесточенный характер. Я помню их так отчетливо, потому что смотрел на них все время, пока мы разговаривали.
Подруга была невысокая, худенькая, угловатая девушка с узким личиком, в очках.
Можно сказать, этакая копия Маргарет. Говорила она немного, но, помнится, я сидел и мысленно все время их сравнивал, точно это было невероятно важно. Хотя толком не понимал, зачем я это делаю.
Все изначально представлялось ясным и понятным, словно было решено и подписано много лет назад. Мы сидели за столиком и разговаривали, между прочим именно об этих вот краях, сидели, и один узнавал в другом себя. Здешние края она изучила вдоль и поперек, знала наперечет все озера, развалины, старые, заброшенные железнодорожные ветки. Ведь с детства проводила летние каникулы в Северном Вестманланде.
Сидя в лучах летнего вечера, я вновь видел родные места — ее глазами.
Думаю, так все и началось.
Она всегда была, что называется, девушкой чистенькой и аккуратной и внешне выглядела безукоризненно. (Любопытства в ее взгляде с годами только прибавлялось.)
Поэтому для меня по сей день загадка, отчего я всегда испытывал легкое смущение и растерянность, когда мы с ней, гуляя по улицам, встречали кого-нибудь из знакомых. Может быть, смущался я просто оттого, что мы были вместе?
(Желтый блокнот, II:2)
* * *
Жизнь шла вполне спокойно. В самом деле несколько лет все было спокойно, прямо-таки идиллия, ни больше ни меньше. Мы колесили по Вестманланду, учительствовали то в одной школе, то в другой, наводили порядок и уют в старых казенных квартирах, развешивали по стенам ее домотканые ковры, расставляли мои шкафы и другие вещицы, в большинстве сделанные собственноручно в разных школьных мастерских.
Пожалуй, мы довольно часто переезжали с места на место, причем работали все время в провинции, — таков был наш образ жизни; так мы оба выражали свой (весьма неопределенный) протест против окружающего общества. Протест овощеводов. Протест против индустриального общества, против…
Я уже плоховато помню. Странно, теперь то время с каждым днем уходит от меня все дальше, и на первый план выступает совсем другое: песня дрозда за окном, утром, когда я просыпаюсь, а чуть поодаль вороны в ветвях деревьев, капля воды на сучке, среди дня, когда наступает оттепель. Подобные вещи видятся теперь в ином свете, то же, что осталось в прошлом, кажется мелким, незначительным.
Она всегда любила ткать, и при переездах больше всего хлопот доставлял ткацкий станок, который приходилось разбирать, а потом собирать снова. В последней нашей квартире он еле поместился, казалось, того и гляди упрется в потолок. Она и краски готовила сама, восковые краски по старинным рецептам.
В Упсале я жил весьма суматошно — девушки, гулянки, долги. Новый образ жизни на лоне природы позволял по-настоящему порвать со всем этим.
Конечно, здесь было и кое-что от романтики или, пожалуй, от анархии. Мы оба с неприязнью относились к правящим кругам, к централизму в стране, к массовому переселению людей из вековых мест обитания в безликие, словно казармы, городские предместья. Неприязнь вызывала у нас и школьная администрация, которая даже и не думала расходовать отпущенные средства на то, чтобы сделать школьные дворы хоть немного уютнее и веселее, но транжирила деньги на нелепые помпезные скульптуры. За завтраком мы без устали ругали слияние муниципальных зон, закрытие школ в малонаселенных районах и сплошную вырубку леса, ведь это однозначно свидетельствовало, что здешний край считают лишь сырьевой базой, этакой кладовкой, откуда знай только берут и берут.
Я имею в виду: все это были реальности, вещи, которые кое-что значили для нас на деле, в самом практическом и очевидном плане, хотя, возможно, не обошлось и без доли снобизма, чувства некоего превосходства: дескать, уж мы-то знаем, чтó тут происходит.
Читать дальше