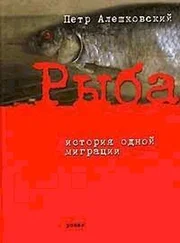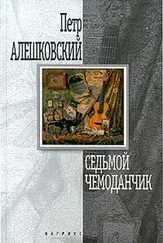Иногда Валентин Егорович еще и нашептывал мне на ухо ласковые слова, и я засыпала коротким целительным сном, из которого меня возвращал к жизни его голос:
– Вера, вставай, бабушка ждет.
О, бабушка! Как же не хотелось мне уходить – будь то день или вечер. Приходилось вставать, чмокать его в щеку, спускаться на лифте вниз, в реальную жизнь. Нет, я любила мою больную не меньше, а теперь, может, даже и больше – рассказывала ей о своем падишахе. Что он во мне нашел? Почему не гонит? Черт дернул меня выложить ему все про Павлика и про Геннадия! Жалеет? Кажется, я ничего не могла дать взамен, но, выходит, была нужна, хотя бы только для того, чтобы уводить его от мрачных дум.
Это он умел. Вдруг погружался в себя, взгляд становился тяжелый, на ласку откликался через силу, преодолевая какое-то внутреннее давление. Он привык жить один – ушел от жены двенадцать лет назад, когда Антон был еще маленьким. Помогал им, купил Антону квартиру. Воевал теперь с его болезнью. Но делал это, будто покупал очередные джинсы, – потому что нужно. Я догадывалась, что его отрешенность и спокойствие кажущиеся, напускные. В постели он позволял себе выйти из привычного образа и не стеснялся чувств, но время заканчивалось, и снова – ледяное спокойствие, нарушаемое иногда родившейся по случаю шуткой. Он жил для себя, с собой, что-то заставляло его иногда разговаривать со мной, как с прохожими на улице: четко, вежливо, без лишних эмоций.
Когда взгляд его тяжелел, он становился похож на зверя – одинокий, молчаливый, как лось в лесу. Так ему было проще идти, сливаясь с листвой, вслушиваться в окружающий мир – в эти минуты мне становилось его пронзительно жалко. Я старалась растопить сковавший лед, но рука, привычно принимающая позывные, часто натыкалась на непробиваемую броню, и я отступала.
Если все же мне удавалось вывести его из транса, он брал мои руки в свои, говорил мягко:
– Иди.
Я уходила. На прощанье он целовал меня в лоб тяжелым, свинцовым поцелуем.
Про обязательства он никогда не забывал – исправно навещал Антона в клинике, встречался с Александром Даниловичем.
О чем мы говорили? А о чем говорят близкие люди? Ни о чем. О мелочах, о прочитанной бабушке очередной книжке – он в детстве читал такие же. О погоде. Его забавляло, что и здесь, в Москве, я постоянно смотрю в небо.
– Тучи, пойдет снег.
– Господи, Вера, как хорошо! Здесь это никого не волнует, для москвичей, по-моему, неба вообще не существует.
– Я так, по привычке.
– Это-то и хорошо!
Он подтрунивал надо мной, деревенщиной, мне это нравилось. Я чувствовала: ему со мной легко.
– Век живи – век учись. Я-то привык все подмечать, но ты научила меня смотреть на небо.
Он действительно любил подмечать – это было частью профессии. Любил поговорить о фотографии. В какой-то момент он в ней разочаровался – надоела репортажная рутина. Но по тому, как он ругал современных фотографов, мне показалось, что есть и другая, затаенная причина, рассказывать о которой он не хотел. В одной из комнат он устроил студию. Снимал теперь редко, исключительно для себя и только на черно-белую широкую пленку, цифровое фото не признавал.
– Достраивать и рисовать на компьютере неинтересно. Интересно живое превратить в картину, поймать и не отпускать.
Часто я слушала его рассуждения о фотографии: как строить кадр, как сложно не спешить, ждать картинки, уже давно сложившейся в голове, – дни, месяцы. Иногда, забывшись, пускался в технические детали, для него существенные, – я не очень их понимала, но ему важно было проговорить то, о чем думал. Он показал мне серию снимков «Птицы» – голуби, воробьи, галки, вороны, чайки, очень жесткие городские снимки, подчеркивающие жадность, сварливость, беззастенчивость, пустое любопытство, самолюбование.
– Ты наделил птиц людскими качествами.
– Это заметно?
– Конечно.
– Значит, удалось.
Себя не нахваливал, зато меня превозносил: я и тонкая, и умная, и сердцем чую, и… я млела, сдавалась, закрывала глаза. Волшебные руки продолжали то, что начали слова. Легко и сладко было сдаваться на милость моего победителя, разом выпадать из пространства и времени и воспарять над бездной, как сом на лунной дорожке в Бабкиной суводи в безмолвную, тихую ночь. Это было блаженство, а другого, коль не дано, было мне и не надо. С ним я обо всем забывала, было хорошо, естественно и не стыдно, как в раю.
12
Так мы прожили зиму, весну и лето. Без его внимания, да просто без его голоса, я, кажется, не прожила бы и дня. Утром, проснувшись и заглянув к бабуле, я всегда звонила Валентину Егоровичу. Это вошло в привычку, мне было важно, чтобы день начинался с его приветствия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу