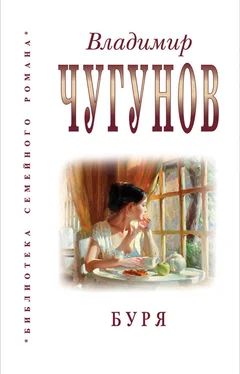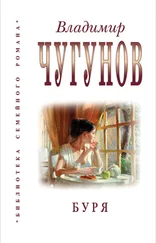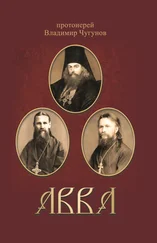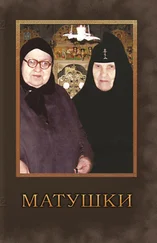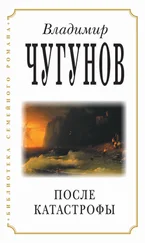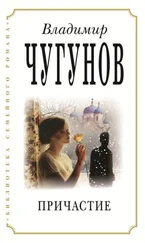А потому, выслушав напыщенную звезду, сказал:
— Лодку отгоню и приду.
— Ну да, ну да, она скоро кое-кому понадобится… — с явным намёком на что-то обронил Глеб.
Я не придал его словам никакого значения.
— Никит, мы ждём! — очевидно, назло Глебу крикнула мне вслед Маша.
— Мы ждём, Никитк! — тотчас съерничал он и на этот раз чувствительно кольнул: — Смотри, куда не надо не заплывай! Заблу-удисси-и!
Дома я застал отца, да не одного, а с Лапаевым. Приехали, как выяснилось, обмывать только что вышедшую книжку Анатолия Борисовича.
Когда я поднялся в мансарду поздороваться с Анатолием Борисовичем, отец, уже изрядно захмелевший (бабушка шепнула, «уже хорошие заявились!»), увидев меня, оборвал разговор.
— Никита Алексеевич собственной персоной! Ну, и как прошло сватовство?
— Сватовство? — пьяно изумился Лапаев. — Он что, женится? На ком?
— Да есть тут одна… Как это? А соловей поёт всю ночь, но дева юная не внемлет…
— Ну всё переврал!
— Не слушайте вы его, Анатолий Борисович, — возразил я, — отеся шутит.
— Опять — отеся! Ну что ты с ним будешь делать? Слышь, Толь, а может, мне его высечь?
— Чем?
— «Жилами говяжьими» или «древием суковатым».
— «Древием суковатым»? Не гуманно. А «говяжьими жилами» — не современно.
— Зато полезно. И потом, почему не гуманно? Всё же лучше, чем… как это? «резаша» и «секоша» носы и уши?
— «Резаша» и «секоша»? — удивился Лапаев. — Отцы? Своим детям?
— Отцы! Да ещё какие! «Пыстырие и учителие вселенной»! Патриархи простые и патриархи вселенские. А ты думаешь, почему Византия пала? Если бы тебе, к примеру, ухо отрезали за то, что ты не тремя, а двумя перстами крестился, ты бы пошёл за «отрезателей» воевать? Турки… Да что турки! Большевики, безбожники, оказались куда гуманнее! Из наганчика или из винтовочки хлоп — и всё. А тут походи-ка всю жизнь с отрезанными ушами, носом или языком. И занимались этим отцы, не сеявшие, не жнущие и не рожавшие. Ты думаешь, я способен ему уши или нос отрезать? Да я его не только «древием суковатым» или «говяжьими жилами», пальцем ни разу не тронул и не трону. И он это прекрасно знает. Потому и не дрожит!
И тут, видя доброе расположение отца, я решился.
— Пап, а можно тебя кое о чем попросить?
— Видишь? И без «говяжьих жил» исправляется!
Анатолий Борисович согласно кивнул.
— Спрашивай, сынку! Чем сможем, поможем!
— Пап, я тут… мы тут… Ты извини… В общем, нашёл я случайно там, в «Капитале», у тебя…
Отец, слушавший сначала снисходительно, будто я хотел попросить его о какой-нибудь невинной мелочи, насторожился.
— Это ещё что за штучки?
— Вы о чём?
Но отец отмахнулся.
— Так… — и ко мне: — И чего ты после этого хочешь?
Я, разумеется, уже ничего не хотел.
— Ну чего замолчал? Высунулся с языком — спрашивай.
— Лучше в другой раз… — попытался отделаться я, но отец не уступил:
— Нет уж, извини… Вы что? — удивился он своей догадке. — Вы это… читали?
Я кивнул.
— Та-ак! Слушаю.
— Мы, в общем… разделяем… и хотели с тобой поговорить…
— Да в чём дело? — ничего не понимал Лапаев. Но отец и на этот раз отмахнулся от него:
— Да погоди ты! Разделяете, значит? Любопытно. И чья это идея, твоя?
Разумеется, я взял огонь на себя.
— Твоя, значит.
— Да что случилось-то? — не унимался Лапаев.
Отец и на этот раз не ответил и, глянув на меня строго, сказал:
— Ладно, ступай! Потом поговорим! — и, взявшись за бутылку, к Лапаеву: — По маленькой?
— Давай.
Отец разлил, они выпили.
Я знал, что сейчас начнётся или, вернее, продолжится только им одним понятный разговор о культуре вообще и о личных качествах отдельно взятого дарования в частности, который никогда и ничем не кончался, и пошёл вниз.
Бабушка стояла у лестницы, с тревогой прислушиваясь к разговору наверху.
— Ну, что там?
— А!.. — махнул я рукой. — Баб, я к Паниным.
— Ну-ну, ступай с Богом, ступай.
И она перекрестила меня на дорожку.
У Паниных в моё отсутствие произошло событие, о чём потихоньку известила меня Люба. Пока Mania с Верой выясняли отношения, Люба рассказывала.
— В общем, ушёл ты, мы на веранду пошли. Сели, то да сё. До песни дело дошло. Ну-у, я тебе скажу, и пе-эсня!.. На стихи этого… Ну, ты знаешь. При Пушкине жил. Из народа.
— Кольцов?
— Да… Вчетвером сидели, Вера с Машей на диване, я тут, он между нас на стуле, к ним лицом, ко мне спиной. А слова что-то типа: «Mania, Mania, молвил я, будь моей сестрою. Я люблю, любим ли я, милая, тобою». Смекаешь? Спел, значит, сидим… Он струны перебирает, в пол глядит. Верка бычится. Как только про Машу запел, супиться стала. А тут встала — и в дом. Я говорю: «Пойду плёнку закрою». А сама напротив окна встала и не дышу. Слышу, говорит Manie: «Понравилось?» Она: «Да ничего». «Знаешь, — говорит, — для кого написал?» — «Ну откуда нам знать?» — «Для тебя». «Да-аже?» Представляешь? Всем одно и то же говорит! И песня эта не новая, и не его вовсе, только имена он в ней всё время меняет. А Маша (ну, умора!) говорит: «К счастью, я хоть и Маша, да не ваша». Иду назад. Открываю дверь, а он мимо меня и к калитке. «А где, — кричу, — ваше до свиданья?» Ух, как он на меня глянул! А эти, — кивнула на дверь, — всё разбираются. Верка думала, из-за неё таскается… А то не видно, из-за кого. Я с танцев поняла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу