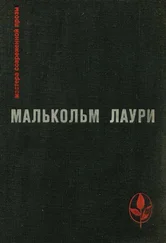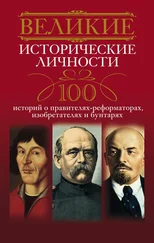Поскольку теперь они начали жить в череде малогабаритных квартирок со старомодными высокими кроватями, имеющими изголовье и изножье, и викторианскими унитазами под названием «Каскад», и плюшевой мебелью, и окнами, непременно выходившими на загнивающий садик, – эти садики, дома, пятящиеся на эти садики, переулки, магазин на углу, кинотеатр, автобусные маршруты к центру города слагались в главный горизонт и перфорированную дорожку их жизни, в предел и периметр их мира. Они извлекали определенное удовольствие из своего брака, так как он нес им ощущение «ответственности», и они часто давали знать о себе своим родителям как о дружной паре. На самом же деле после первых месяцев совместной жизни, когда сексуальное упоение, с самого начала не слишком интенсивное, начало слегка угасать и они огляделись вокруг себя, то довольно скоро начали раздражаться друг на друга, огорчаться из-за своего материального положения, изнывать от простейшей необходимости управляться с каждодневной жизнью. Жить в этом скользящем социально двусмысленном положении, в этой аспирантской бедности, этом жалком мирке без друзей было нелегко; проблемы такого существования въедались во все частности их контактов и симпатий. Говард часто говорил об этом времени «созревания» – созревание же, объяснял он позднее, когда уже предпочитал Другие слова, это ключевое понятие аполитичных пятидесятых, – и говорил о нем как о нравственной ценности, которую ставит превыше всего. Он был склонен объяснять их жизни, как очень серьезные и зрелые, главным образом потому, что они очень беспокоились, как бы не расстроить друг друга и не транжирить деньги зря; каким-то образом это сделало их Лоренсом и Фридой Лидских задворков. Вопрос же заключался в том, что, как позже они согласились, ни она, ни он ни в малейшей степени не были культурно подготовлены вести то, что Говард начал позднее называть – когда слово «зрелый» устарело из-за своих тяжких викторианских плюшевых моральных ассоциаций – «взрослыми жизнями». Они были социальными и эмоциональными младенцами с дедовской солидностью; вот как он позднее начал их рисовать, когда, уже совсем иной, возвращался мыслью к достойным любопытства их ранним личностям в первую пору этого слишком поспешного брака. В общепринятом смысле они были ничем; они мучительно влачили скучнейшее из существований. Как часто Барбара, расстроенная невозможностью купить за один раз две банки фасоли или два куска мыла, садилась в их старое красное плюшевое кресло и плакала из-за денег. Как они ни соблюдали вид добродетельной бедности, она невольно разделяла любовь своей матери к обладанию «вещами»: хороший гарнитур из трех предметов для гостиной, кухонный буфет с ломящимися от изобилия полками, белая скатерть на обеденном столе по праздничным дням. Что до Говарда, хотя он и говорил о зрелом поведении, но в основном применял это понятие к очень серьезным беседам и к книжным аргументам; он не стряпал, ничего не делал по дому, был слишком застенчив, чтобы ходить за покупками, и не замечал ни единой из тревог Барбары.
То есть Кэрки тогда, собственно, не были Кэрками; они были очень замкнутыми людьми почти без друзей, наивными и молчаливыми друг с другом. Они не обсуждали никаких проблем – главным образом потому, что не относили себя к людям, имеющим проблемы; проблемы были уделом менее зрелых людей. Большую часть своего времени Барбара одиноко проводила в квартире; наводила порядок и убиралась сверх всякой меры и немножко читала без всякой системы. Их сексуальные отношения, казалось, связывали их в оптимальнейшей интимности, объясняли, почему они состоят в браке друг с другом, доказывали необходимость того, что называют браком; на самом же деле отношения эти, как они начали думать позднее, были жалкими, безынициативными – номинальное наслаждение, избавление от эрекции, осложненное их общим страхом, как бы Барбара не забеременела, поскольку во избежание зачатия они пользовались только изделиями фирмы «Дьюрекс», которые Говард робко приобретал в местной аптеке; впрочем, было и кое-что еще: раздражение, которое они вызывали друг у друга, но в котором ни он, ни она себе не признавались и о котором никогда вслух не говорили. «Мы тогда, – объяснял Говард впоследствии, когда они увидели себя, по выражению Говарда «правильно», когда эта фаза завершилась и они начали обсуждать все подобное между собой и со своими друзьями и все более ширящимся кругом знакомых, – захлопывали друг друга в капкан фиксированных личностных ролей. Мы не могли допустить личных исканий, личного развития. Это означало бы катастрофу. Мы не могли дать ход ни единой из новых возможностей, верно, детка? Вот так люди и убивают друг друга в замедленном темпе. Мы не были взрослыми». Взрослое бытие наступило много позднее; исходное положение тянулось три года, пока Говард кропотливо и исчерпывающе работал над всеми мелочами своей диссертации, а Барбара смотрела на себя в зеркала малогабаритных квартирок. Но затем они нашли себя на середине третьего десятка своей жизни, когда диссертация была завершена, а грант исчерпался и возникла необходимость подумать о следующем ходе. И примерно тогда же с ними кое-что произошло.
Читать дальше