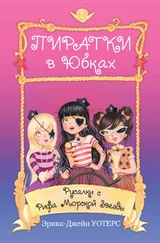Эта мысль засела в мозгу Христофора Михалушева.
Редко видясь с людьми и научившись понимать язык деревьев и птиц, он, еще недавно мнивший себя совершенно свободным в заброшенном домике у реки, теперь понял, что ошибался. Да, равнина дарила ему свое приволье, солнце и облака тоже благоволили к нему, но он потерял ощущение свободы, в его душе оставался высокий порог, который ему пока не удалось перешагнуть. В детстве у него были дни и часы полной свободы, но тогда он не умел осознать их и оценить, и они исчезли безвозвратно. Все остальные годы жизни были полны ответственности перед кем-то или чем-то. Совесть не позволяла ему до последнего дня покинуть мать, чья больная душа бродила среди кошмаров, как деревенская скотина бродит в кустах ежевики на перелогах; он не мог стереть в памяти образы детей, которых учил на протяжении четырех десятков лет, не мог не принимать близко к сердцу заботы и боль этих теперь уже немолодых людей, что давно распростились с ним и, может быть, забыли о его существовании; у него не хватало сил на время расстаться с сыном, отправить его туда, куда помещают душевнобольных, а самому собрать свои пожитки и поселиться в доме престарелых… Не хватало сил…
В минуты подведения итогов учитель мог бы разворошить в своей душе все, о чем мы упомянули сейчас, и воскликнуть: «Сгиньте! Я хочу быть свободным!» Но тогда это был бы не он, а другой человек, от которого он сам бы отвернулся с презрением. И, отворачиваясь, увидал бы лисицу…
Да, лисица была здесь, она все еще кружила возле дома: обнюхивала стены и прислушивалась, словно хотела различить голоса тех, кто некогда жил тут.
«Раздобуду ружье и в один прекрасный день пальну в этого мерзкого зверя…» — подумал учитель и кашлянул, чтобы отогнать лису. Но она не удрала, а подошла к окну, встала на задние лапы и заглянула в комнату.
Их взгляды встретились — и на Христофора Михалушева дохнуло холодом лисьих глаз…
Однажды днем приехал на своей коляске Муни. Привез сосновые доски, и они вместе перетаскали их под навес. Назавтра Муни приехал опять со связкой планок и досками в человеческий рост высотой. Сияющий Маккавей выбежал ему навстречу, что-то шепнул на ухо, чтобы не расслышал отец, и сложил все под навес.
Как-то под вечер трехколесная коляска прикатила снова. Гость побыл недолго: оставил на траве ящичек, в котором было два рубанка, тесло, шурупы и гвозди, заглянул под навес, где на грубо сколоченных козлах лежали привезенные им доски. Учитель как бы между прочим спросил, что это они с Маккавеем задумали, но Муни только улыбнулся в ответ и, заговорщически сверкнув глазами, дружески похлопал учителя по плечу: дескать, потерпи — узнаешь, потом, посвистывая, устроился поудобнее на протертом сиденье своей коляски и укатил.
Было ясно: у Маккавея что-то на уме, и он хочет сохранить это в секрете от отца. Он весело расхаживал по двору, рыжая шевелюра сияла, словно озаренная огнем затаенных мыслей, разглядывал доски и что-то чертил на листке из школьной тетради.
Христофор заметил, как переменились у сына и походка, и речь. Теперь он ступал уверенно, спокойно. В словах сквозили легкость, прозрачность, словно Рыжеволосый смыл с души долгие годы копившуюся пыль. Он стал спокойнее спать, хотя, преследуемый сновидениями, по-прежнему вскрикивал ночью и бредил, но в невнятном бормотании был уже не страх, а угроза всему, чему он столько времени покорялся, перед чем недвижно, стиснув зубы, застывал — так в детстве, мальчишкой, он недвижно стоял перед кидавшимися на него собаками, а те, разглядев в его глазах не страх, а твердость, молча пятились и брели прочь.
Маккавей не смог долго хранить свою тайну. Однажды вечером, когда его вилка весело звякала о тарелку, он признался отцу, что собрался строить лодку.
— Мы проплывем на ней по всему поречью, — Маккавей смотрел на отца, и в глазах его мерцал огонек лампы, как еле различимый далекий парус, возникший в подтверждение его слов. — Я повезу тебя к перовским мельницам, мы проплывем над руслом Уручского ручья, куда ты много лет назад водил меня ловить раков, — помнишь, как один ущипнул меня за палец, но я не заплакал, уже был большой.
— Помню, — сказал отец. — По вечерам раки выползают, пасутся возле подводных пещер. Я, бывало, набирал их целыми мешками. Уручский ручей — это их вотчина.
— В ветреный день поставим паруса… — продолжал Маккавей. — Как это, наверно, прекрасно — держать в руках канаты и ощущать, что лодка под тобой подпрыгивает, будто хочет оторваться от воды…
Читать дальше