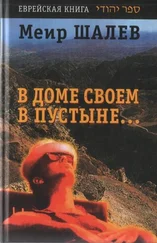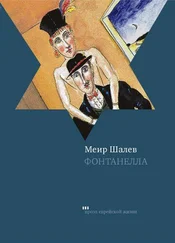Дядя Менахем, понимавший, как сильно душа Юдит привязалась к этой ее корове, и, в отличие от своего брата, признававший право человека вести себя как угодно странно и эксцентрично, предложил ей посоветоваться с соседом, Шимшоном Блохом, ветеринаром-самоучкой, о котором я уже упоминал.
— Только не давай ему задавать свои глупые вопросы, — сказал он.
Жители Долины любили и ценили Шимшона, но он раздражал их своими кустарными исследованиями цикла течки домашних животных, ради которых донимал деревенских женщин весьма интимными вопросами.
— Профессора в университете режут мышей, чтобы понять, отчего болеют люди, а я всего только задаю женщине несколько вопросов, чтобы понять, что чувствует корова, — невозмутимо объяснял он.
— Женщина, которая любит, это тебе не корова, у которой течка! — набросилась на него однажды Батшева.
— Самка — она всегда самка, и самец — он всегда самец, — ответил Блох. — Яйца и яичники, много шума и криков, всего и делов. Какая разница, ходят они на двух ногах или на четырех? И где они переваривают жвачку — в животе или в уме?
Он бросил на Рахель один-единственный взгляд и покачал головой: «Пустой номер».
Потом достал измерительную ленту и измерил Рахель в высоту и в длину, от плеча до переднего копыта и до основания хвоста.
— Точно одно и то же, — сказал он. — Посмотри сама. Высота в точности как длина. Дас из а тумтум. Нит а бик ун нит а ку. — Бесполая она, ни бык, ни корова.
— Я хочу сохранить эту корову, — сказала Юдит. — А если она не будет давать молока, Рабинович продаст ее Сойхеру.
— Такая уж у коров судьба, — сказал Блох. — Какое там молоко из такого вымени?!
— Пусть хоть самая малость, и то хорошо.
— Есть один способ, — сказал Блох. — Нужно ее доить, и доить, и доить, пока из нее под конец что-то, может быть, выйдет. Бывает, что получается, а бывает, что нет.
Юдит вернулась домой и начала раздаивать Рахель.
Поначалу корова возмущалась, дрожала и брыкалась. Но Юдит уговаривала ее словами и ласками, пока Рахель не смирилась.
Рабинович, который видел все это и понимал, о чем идет речь, сказал ей, что она зря тратит силы.
Глоберман не сдержался и добавил:
— Может, ты подоишь и других бычков, госпожа Юдит? Они будут тебе очень благодарны.
— Эту корову я буду доить, пока из ее вымени не выйдет молоко, а из моих пальцев не выйдет кровь, — огрызнулась Юдит. — Но тебе ее не видать, как своих ушей.
За окошком отдохнуть
Ласточка присела.
Мальчик подбежал взглянуть —
Птичка улетела.
Плачет, плачет крошка —
Птичка улетела.
Подбежал к окошку,
А птичка улетела.
В большой деревянной клетке, что висела на балке коровника, билась птица.
Поначалу этот кенарь, самый красивый из всех птиц Якова, пел для Юдит преданно и громко, но потом умолк, как это случается с наемными ухажерами, когда они видят, что их пение ни у кого не вызывает восторга, и от сильного смущения у него начали выпадать перья. В конце концов Юдит открыла ему дверцу, и он улетел — сердитый, пристыженный и довольный, если только такие разнородные чувства могут уместиться в маленьком птичьем сердце, — и вернулся к своему хозяину.
Яков увидел птицу и понял, что объяснение в любви нельзя перепоручать посыльным — это дело самих заинтересованных лиц. И поскольку он не имел смелости объясниться с Юдит напрямую, то предпринял попытку обходного действия. Он съездил в город, купил там листы желтой бумаги («желтый — это цвет любви», — объяснил он мне, дивясь моему невежеству в столь кардинальном вопросе) и нарезал их на квадратики разных размеров, которые быстро заполнились словами, превратились в любовные записки и начали скапливаться, погребенные в запертом ящике стола.
Каждый вечер мама баловала себя маленьким глотком, после чего тотчас возвращала бутылку граппы в ее постоянное укрытие и снова принималась за работу.
Однажды она чем-то отвлеклась, и Глоберман, который всегда ухитрялся возникать в самые неподходящие минуты, заглянул в коровник и увидел бутылку на столе. Он не сказал ни слова, но в следующий свой приход спросил:
— Может, госпожа Юдит соблаговолит и со мной выпить разочек?
— Может быть, — ответила мама. — Если ты усвоишь, когда можно приходить и как нужно себя вести.
— Завтра в четыре пополудни, — сказал Глоберман. — Я принесу бутылку, и я знаю, как себя вести.
В четыре часа послышался знакомый «Банг!» и зеленый пикап затормозил об ствол эвкалипта.
Читать дальше