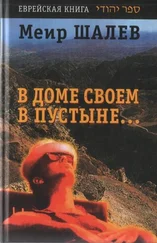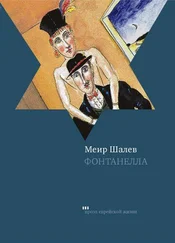Как-то ночью, через несколько месяцев после их свадьбы, Одед отправился по своему обычному маршруту, и вдруг на него напала такая странная и мучительная тревога, что он даже испугался вести машину. Он затормозил на обочине, посидел несколько минут, размышляя, потом снова двинулся в путь, опять остановился, развернул машину и поехал обратно в деревню.
Поравнявшись с Народным домом, он заглушил мотор и тихо, точно огромная металлическая гусеница, соскользнул по спуску, пока не остановился возле своего дома. Прислоненный к дереву, стоял запыленный незнакомый мотоцикл, от его мотора еще шел горячий запах. Одед спустился из кабины, заглянул в окно и увидел свою жену верхом на каком-то мужчине. Тонкое мускулистое тело Дины отливало ее особенным темным блеском.
Одед почувствовал ужасную слабость, словно все его мышцы и суставы превратились в губку. Спотыкаясь, он вернулся к машине, завел ее и поднялся в центр деревни. Там он вылез, вывинтил большую пробку в днище цистерны, заперся в кабине и взялся рукой за тросик гудка.
Пугающий белизной молочный ручей хлынул вдоль улицы. Могучий гудок машины и многоголосое мычание новорожденных телят, вырванных из теплого сна запахом молока и увидевших, что их сон стал реальностью, разбудили всю деревню.
— Это был самый прекрасный момент моей жизни, — сказал он мне. — Это было куда лучше, чем просто войти в комнату и прикончить их обоих. Это мне стоило уйму денег — молоко, и развод, и суды, и все прочее, — но скажу тебе честно, Зейде, я получил большое удовольствие.
— Хочешь погудеть? — снова спросил он, как спрашивает всегда.
Конечно, я хочу погудеть. Я протягиваю руку и тяну. Из росистого лона трав откликаются жабы, бледнеющая предрассветная луна плывет за нами, отстраняя пушистые объятия облаков, и ее слабое сияние просеивается в их мягкие просветы.
В эту пору суток радио в машине Одеда возвращается из своих орущих странствий по греческим и югославским далям и снова начинает говорить на иврите. Но мне не нужны эти приметы. Часы смотрят на меня отовсюду. Я снова ищу и нахожу маленькую стрелку большого времени, стрелку лет и их сезонов, и большую стрелку маленького времени, стрелку суток и их минут и часов. Оттенки листьев говорят мне: «Хешван», поздняя осень. Предрассветный морозец уже затягивает невидимые лужицы в низинах. Кружева на востоке блекнут и говорят: «Без десяти пять».
— Тебе не нужны часы на руку, Зейде, — посмотри, сколько часов вокруг, — говорила мама.
Каждый крестьянин может сказать, какой сейчас месяц, по беззвучным молниям осени и весеннему цветению садов. Но я способен прочесть время по расцветке старых, почерневших вороньих гнезд и по встопорщенным перьям взрослеющих вороньих птенцов.
«Деревня — это комната, сплошь уставленная часами», — писал я Номи в Иерусалим, напомнить ей, чтобы она не забывала.
А она писала мне, что у нее есть только одни часы: религиозный молочник, который каждое утро ровно в четверть седьмого появляется в их квартале, постанывая, толкает перед собой тележку с бидонами и возвещает о своем товаре тремя протяжными усталыми гласными: «Мооо-лооо-кооо!» — которые долго звенят в узком проеме лестничной клетки.
А несколько недель назад я написал ей о нашем обветшавшем Народном доме, этих огромных часах, свидетельствующих о смене времен мощью сухого плюща, запеленавшего его стены, семисвечником [55] Семисвечник (менора; букв.: светильник; ивр. ) — восходящее к Библии обозначение семиствольного светильника, одного из культовых атрибутов Храма. В настоящее время — наиболее распространенная еврейская национальная и религиозная эмблема.
, что украшает крышу своими обломками, голубями, которые угнездились в углах его зала.
Ласточки то и дело влетают через вентиляционные колодцы, чтобы покормить своих птенцов, а в старой кинобудке разит совиным пометом. Это не часы со стрелками и не песочные часы. Часы слипшихся пластов — вот что это такое, и время они отмеряют толщиной засохших птичьих испражнений, коркой ржавчины на перилах балкона да простынями скопившейся на полу пыли, в которых гусеницы муравьиного льва высверливают свои скользкие смертельные воронки.
Все двери и окна давно заколочены, но кое-где доски уже взломаны, и когда я захожу туда и жду, пока глаза привыкнут к темноте, мне в нос ударяет тонкий, омерзительный запах человечьего кала и бесчестья. Усталость наваливается на меня, я присаживаюсь на один из загаженных стульев, и резкий скрип дерева пробуждает громкое встревоженное хлопанье крыльев в темной пустоте.
Читать дальше