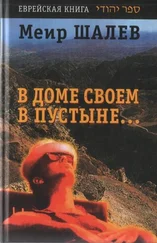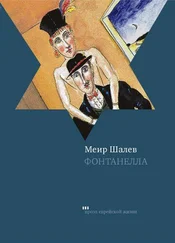Второй лес, подальше, дубовый, лежал как раз на том пути, которым я шел сейчас к Якову. Сюда я тоже приходил в детстве, но этот лес был слишком далеко, чтобы тащить туда наблюдательный ящик. Здесь я просто лежал на сухих листьях и подолгу смотрел в небо.
Тут жили сойки с принципами, раз и навсегда отказавшиеся подбирать объедки с человеческого стола. Они были такие же наглые и любопытные, как и их сородичи, давно перебравшиеся в окрестные деревни, но казались поменьше тех, и голубизна их крыльев выглядела не так нарядно, а птенцы были более жилистыми и дикими. Эти сойки прятали про запас желуди, меньше летали и предпочитали незаметно прыгать меж веток. Самцы, как я не раз видел, еще сохранили обычай, давно забытый их деревенскими братьями, — они строили сразу несколько гнезд и предоставляли самке выбрать одно из них.
Мои старые друзья-вороны здесь не жили, но черных дроздов я видел и слышал, — франтоватых самцов, что кичились своим черным опереньем и оранжевыми клювами, и скромных самок, маскировавшихся в серое и коричневое.
«Мальчик опять ушел в лес!» — кричал Моше Рабинович.
«Там опасные звери», — приходил ему на помощь Яков Шейнфельд, в душе которого еще текла река его детства и не исчезли страхи северных лесов и вой голодной волчьей стаи.
«А ну, хватай побыстрее свой пикап и отправляйся искать парня!» — торопил Глоберман Одеда.
А мама смеялась. «Если Ангел Смерти придет в лес и увидит маленького мальчика, которого зовут Зейде, — напоминала она моим трем обеспокоенным отцам, — он тут же поймет, что произошла ошибка, и отправится в другое место».
Тихий, деятельный шорох непрестанно стоял в лесу — шуршание листьев и голоса птиц, торопливые шажки мелких животных и посвист ветра. Но стоило мне приблизиться к опушке, как тотчас послышались звонкие предупреждения дятла, и все звуки разом смолкли, будто по приказу. Я лег на землю и растянулся на спине. Огромный полог тишины спустился с вершин дубов и укрыл мое тело.
Нити паутины сверкали на солнце, жучки волочили по земле свою добычу, из-под настила листьев парило сырым теплом — верный признак медленного брожения гнили. Мало-помалу мои уши освоились с тишиной, и вот я уже начал различать тончайшие прослойки меж ее пластами: неумолчное шуршание высохшей дубовой листвы, неутомимый жор червя, вгрызающегося в древесный ствол, скрип перетираемых зерен в зобах горлиц, отъедавшихся перед перелетом в Африку.
Прошло несколько минут настороженности и приглядывания, прежде чем лесные твари привыкли к моему присутствию и успокоились. Дятел снова взял на себя роль герольда, быстрым барабанным боем распоров тишину. Вслед за его перестуком раздался раздраженный металлический голос синиц, и их тут же поддержали и усилили все прочие лесные жители. Мир распался на тысячи тонких звуков, словно вывалившихся из разодранного нараспашку мешка. Все колесики природы разом затикали вокруг меня, как в часовом магазине. Маленькие стрелки сезонов показывали конец лета — криком последних цикад, сухим пыльным запахом вспаханных полей, громким хлопаньем крыльев каменной куропатки, чья расцветка, смелость и величина отмеряли те несколько дней, что прошли с момента ее вылупления. А большие стрелки показывали время дня — солнцем, которое уже начало опускаться, да западным ветром, который нашептывал: «уже-четыре-часа-после-обеда-и-сейчас-я-усиливаюсь», да громким криком стрижей, ищущих добычи и объявляющих о приближении вечера.
Я помню, как мама впервые учила меня читать по этим стрелкам. Я был тогда шести лет от роду и попросил купить мне часы.
«У меня нет денег на часы», — сказала она.
«Тогда я попрошу Глобермана, и он мне купит. Он мой отец, и у него куча денег».
Несмотря на малолетство, я уже хорошо понимал статус трех мужчин, которые заботились обо мне, приносили мне подарки и играли со мной в разные игры.
«Ты никого ни о чем не будешь просить, — тихо и жестко сказала мама. — У тебя нет отца, Зейде, у тебя есть только мать, и то, что я смогу, я куплю тебе сама. У тебя есть еда, чтобы поесть, и одежда, чтобы носить, и ты не ходишь босиком, без обуви».
Но потом, чуть смягчившись, взяла меня за руку, вывела во двор и сказала: «Тебе не нужны специальные часы, Зейде. Посмотри, сколько часов есть в мире».
Она показала на тень эвкалипта, которая своей длиной, направлением и прохладой говорила: «Девять утра», на красные листики граната, которые говорили: «Середина марта», на зуб, который шатался у меня во рту и говорил: «Шесть лет», и на маленькие морщинки в углу ее глаз, которые разбегались с криками: «Сорок!»
Читать дальше