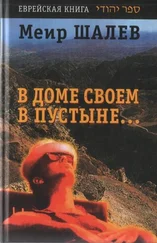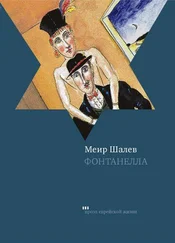— Делай как я, — сказал он. — Изображай человека, который никогда не устает.
Он обрубил ветки и уложил их плотными рядами.
— Ну вот, Шейнфельд, — сказал он, — теперь у тебя уже нет сада, куда ты мог бы вернуться.
Я встал, вскипятил немного воды в кастрюле и вылил в ладонь два яйца. Потом растопырил пальцы, дал белкам стечь между ними в раковину и взбил веничком желтки с сахаром, с вином и с тем сладким отражением, которое ожидало их в моей памяти.
Не прекращая взбивать, я поставил миску на кастрюлю с кипящей водой и продолжал размешивать еще две минуты. Желтки согрелись, впитали вино и собственную жидкость, превратились в гладкую массу, и наконец в воздухе родился густой запах забайоне. Кончив облизывать палец, я встал и провел языком по верхним зубам справа налево и слева направо: слад-далс-слад-далс-слад-далс-далс-далс-далс-далс…
Потом прижал язык к нёбу и проглотил слюну, заполнившую мой рот.
Вернулся к столу, посидел, ощущая, что живот мой полон, а голова пуста, а затем собрал тарелки со стола, отнес их в раковину и вымыл.
Оконное стекло над раковиной сверкало чистотой, и мягкое солнце, стоявшее на «уже-семь-вечера-сейчас-я-зайду-за-горизонт», освещало сад. Пузырьки воспоминания всплывали и лопались один за другим, разворачивая и лаская, и лицо Якова за световыми бликами на стекле было смягчено печалью.
— Ты спрашиваешь, почему я влюбился в нее, Зейде?
Он улыбнулся, словно говорил сам с собой, потому что я ничего не спрашивал, во всяком случае вслух.
— Не только я один, — продолжал он. — И Глоберман в нее влюбился, и Рабинович, и Номи тоже в нее влюбилась. Мы все вместе, каждый по-своему, ее любили, и так она растила тебя с тремя отцами, но без одного-единственного отца, и с того дня, что ты родился, сразу трое мужчин считали тебя своим сыном и следили за тобой и друг за дружкой тоже. Знаешь, когда Глоберман умер, я ведь пошел на его похороны не только потому, что так положено и мне было его жалко, но еще чтобы увидеть, что на этот раз он действительно умер, а не пытается сбить цену на корову. И думаешь, Рабинович не пришел туда точно по той же причине? Мы все следили друг за дружкой, а вся деревня следила за нами. И все гадали и спрашивали, чей же это ребенок, и только я не понимал, о чем они говорят. Ведь когда есть любовь, можно и во сне забеременеть. Но однажды, для уверенности, я остановил ее на улице, схватил за руку и сказал: «Скажи, Юдит, ты приходила ко мне ночью? Может быть, ты приходила так, что я даже не почувствовал? Тогда, в ту ночь, когда Рабинович продал твою корову?» Знаешь, Зейде, порой женщина, когда она очень хочет ребенка, может сделать такое. Приходит ночью, и мужчина даже не чувствует и не знает ничего или думает, что ему снится сон, и он боится проснуться, как это со мной уже много раз так случалось, будто я лежу с открытыми глазами, и мне снится, что она пришла, и она со мной, и ее руки я чувствую здесь и здесь, и ее губы на моих, и, ты меня извини, Зейде, ее соски тоже точно на моих. Люди всегда спрашивают, зачем у мужчин на груди есть соски, и на это есть разные ответы. Раньше всего говорят, что это для того, чтобы мы помнили, откуда мы произошли, а потом говорят еще, что это для того, чтобы мы помнили, кем бы мы могли быть, и третье, говорят, что это для того, чтобы мы могли совершить чудо и дать молоко. Ведь иногда, Зейде, ты бы и хотел сделать чудо, но у тебя нечем его сделать, так наш еврейский Бог уже об этом подумал и дал тебе для этого соски. Если Он мог сделать воду из скалы, так что, Он не может сделать молоко из мужчины?! А теперь я тебе скажу, Зейде, что все это сказки. Соски у мужчины только для того, чтобы он мог точно расположить себя против женщины. Если его губы на ее губах и их соски друг против друга, то их глаза тоже смотрят один в другой, и все остальное тело точно подходит одно к другому. Так, может быть, ты действительно приходила ко мне в таком сне? Ведь когда я лежал так по ночам с открытыми глазами, мне уже много раз казалось, что ты со мной, Юдит, и вокруг шеи, и вокруг бедер ты обнимала меня, всеми своими руками и ногами, и ты вся была со мной, я это много раз видел с открытыми глазами, но в ту ночь я закрыл глаза и увидел, что это правда, и все, что у нас есть, оно на самом деле точно одно против другого — грудь против груди, и рот против рта, и глаза против глаз, и ее руки на всем моем теле, гладят, будто проходят по шелковой воде и говорят: «Я здесь, ша… Яков… ша… ша… я здесь… ты не один… а сейчас спи, Яков, спи». И от всех этих «ша», и этого «Якова», и этого «спи» я в конце концов поднялся и пошел с ней в коровник и, наполовину проснувшийся, наполовину сонный, помог ей там доить рабиновических коров. Так потом, когда я видел, как растет ее живот, я думал, что, может, все это на самом деле было, может, она действительно была со мной, потому что ты ведь знаешь, как это бывает: под конец ты просыпаешься, и тогда с одной стороны ее уже нет, но с другой стороны ты видишь, извини меня, что у тебя там мокро, и ты чувствуешь, что весь воздух заполнен запахом осени. И для того, кто понимает, это знак, что пришло время любви. Так мне сказал Менахем Рабинович. Осень — это когда животные ищут пищу, чтобы растолстеть на зиму, а для людей — это время, когда они ищут кого-нибудь, чтобы спать вместе в холодную ночь. А весна, она просто для того, чтобы прыгать, и радоваться, и делать детей. Из-за этого есть весной люди, которые кончают с собой, потому что совсем не все хотят участвовать в этом веселье. Это, как у нас пели в Пурим, «должны вы веселиться», пока как-то раз Рабинович не надел одежду своей Тонечки, которая утонула, и стал выглядеть точно как она, и поднялся на сцену, и показал всем, что значит, когда заставляют веселиться. Так почему мы заговорили про осень, Зейде? Из-за этого запаха рожков? А разве есть лучше доказательство, что ты была со мной? Разве семя выходит из мужчины само собой? Я все это сказал ей там, на улице, и тогда она вырвала свою руку из моей и сказала: «Не делай из себя посмешище, Шейнфельд! Я не приходила к тебе ни ночью, ни днем, и в этом животе у тебя нет доли и удела, и даже не думай ни о чем таком». «Так у кого тогда есть доля и удел? Ну, давай, скажи мне, Юдит, у кого они есть?» И у меня все тело тряслось. «Ни у кого, кого ты знаешь, и ни у кого, на кого ты думаешь, — она мне ответила. — И не думай, что если ночью я пришла к тебе, а утром ты помог мне доить, так у тебя уже есть права». Но я не оставлял ее в покое, потому что живот и злость — они были ее, но сон и семя были мои. И я приходил к ней, чтобы повидать ее, а она прогоняла меня. Один раз она мне сказала: «Ты видишь эти вилы, Шейнфельд? Ты сейчас получишь этими вилами в свой живот, если не перестанешь говорить о моем животе». Я не мог слышать, как она называет меня «Шейнфельд». Ведь только три раза она назвала меня «Яков», а не «Шейнфельд»: первый раз, когда я выпустил для нее всех птиц, и второй раз, когда она была со мной тогда ночью, а про третий — это я тебе сейчас расскажу. Ты думаешь, я испугался? Я тут же раскрыл свою рубашку, и я сказал: «А ну, воткни свои вилы, Юдит!» Потому что беременная женщина, у нее есть капризы, и с этим нужно считаться. Она хочет поесть что-нибудь — дай ей поесть. Она хочет ссориться — дай ей ссориться. Она хочет ткнуть тебя вилами — дай ей ткнуть себя вилами. И тогда она засмеялась. Как сумасшедшая она смеялась: «Ну, что с тобой будет в конце концов, Яков?!» И вот так, с вилами в руке, это был третий раз. И за несколько дней до родов я пошел и купил нужные вещи, и желтую птичку из дерева я тоже сделал, чтобы тебе было чем играть, и после того, как ты родился, я снова и снова приходил и говорил ей снова и снова: «Я прощу тебя, Юдит, только скажи мне, чей это мальчик?» — пока один раз она подняла руку и ударила меня по лицу: «Ну ты и нудник, Шейнфельд! Мне не нужно прощенье — ни от тебя, ни от кого другого». «Нудник», Зейде, — это очень обидное слово в любви. А на мой вопрос она так и не ответила. До самого конца ничего мне не сказала. Мы прибежали туда и увидели: половина эвкалипта уже на земле, и эти побитые яйца несчастных ворон в снегу, и черные перья, и голубая косынка — все там было, только не ответ. И Рабинович стоял там и уже наточил топор — как будто это чему-то поможет! Как будто дерево сделало это нарочно! И тогда я подумал, Зейде, что, может, это не Судьба, а ее брат-злодей, которого мы называем Случай. Потому что у Судьбы есть два брата — я тебе уже рассказывал об этом? Нет? Так вот, хороший брат у Судьбы — это Везенье, а плохой ее брат — это Случай. И когда трое этих братьев начинают между собой смеяться, так вся земля дрожит от испуга. Так Везенье, Зейде, это было, что она приехала к нам, а Случай — что она умерла, а Судьба — что она уже была по дороге на свадьбу, которую я ей приготовил, и в том свадебном платье, которое я для нее сшил, и вдруг по дороге что-то случилось. Ведь такой большой эвкалипт в Стране Израиля, — разве это не Случай? И такой большой снег в Стране Израиля — разве это не Случай? А то, что ты, Юдит, пришла ко мне ночью — это Судьба или это Везенье? А такой бумажный кораблик, который приплывает к девушке, — это нарочно или это случайно? Что я могу тебе сказать, Зейде, — сейчас все это уже ничего не меняет. А нафка мина , как она всегда говорила. Вся деревня шла за ней на кладбище, и только я один не пошел. А ну, спроси меня, почему я не пошел? Я скажу так потому что я почувствовал, что если бы вместо этих похорон была свадьба, меня бы не пригласили. Ты меня понял? Вот я и не пошел. Ну, так это старое сердце, которое всю жизнь было одиноким, будет еще немножко одиноким. Оно уже привыкло быть одиноким, так оно будет еще немного одиноким, да?
Читать дальше