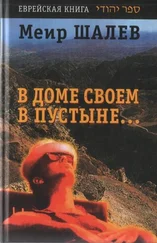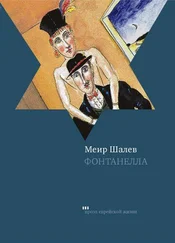А Глоберман, верный себе и своим убеждениям, принес большую пачку денег, послюнявил палец и начал делить их на пять маленьких кучек, громогласно объявляя гостям:
— Это для мальчика, это для матери, это для отца, и это для отца, и это для отца… — пока Деревенский Папиш и Городской Папиш не крикнули на него в один голос:
— Дай уже свой подарок и заткнись наконец!
Спи, мой Зейделе, мой мальчик,
Спи, сынок, а я спою.
Ты мне лучше всех на свете,
Баю-баюшки-баю,
Спи, мой Зейде, я про птичку
Песенку тебе спою.
Ты как птичка-невеличка,
Баю, Зейделе, баю.
«Если Ангел Смерти приходит и видит мальчика, которого зовут Зейде, он тут же понимает, что ошибся, и идет к кому-нибудь другому».
С полным доверием к имени, которое она мне дала, я вырос в абсолютном убеждении, что в тот день, когда стану дедушкой и буду уже соответствовать своему имени, Ангел Смерти явится ко мне, потеряв терпение, с багровым от ярости, как у всех обманутых, лицом, выкрикнет мое истинное имя и выплеснет чашу моей жизни на землю.
Я помню маленькие, очень четкие картинки — картинки раннего детства.
Однажды я проснулся ночью и увидел, что она лежит на спине. Стояла жаркая летняя ночь, она сбросила простыню, руки ее были раскинуты, грудь обнажилась. Обычная строгость сошла с ее лица, даже вечная складка между бровями разгладилась. Я поднялся укрыть ее, и когда простыня взметнулась над ее телом, она потянулась, расслабилась и улыбнулась во сне, и словно волны прокатились по наготе ее тела. Я снова взмахнул простыней и снова дал ей опуститься, пока из маминого горла не вырвался мягкий стон, но когда я поднял простыню в третий раз, ее глаза вдруг открылись. Суровым и холодным был их взгляд, совсем как ее голос, который произнес:
— Хватит, Зейде, иди спать.
Я сказал:
— Но мне хочется, чтобы тебе было приятно.
Я помню, как мама встала, и взяла меня за руку, и решительно отвела в мою кроватку, а сама вернулась и легла в свою кровать, но мы оба знали, что мы оба не спим.
И еще я помню, как в три с половиною года Яков научил меня читать и писать, потому что я ныл, что единственный в семье не могу прочесть весенние записки дяди Менахема.
И еще я помню, как Глоберман давал мне сосать тонкие, соленые и очень вкусные пластинки сырого мяса.
И еще я помню, как мы играли с Моше в «Страшного медведя» и как я первый раз упал с эвкалипта. Все вокруг, включая меня самого, были уверены, что я убился, но когда я открыл глаза, ожидая увидеть Бога и ангелов, мама сказала мне:
— Вставай, Зейде, нечего разлеживаться, ничего с тобой не случилось.
Ее рассказы вошли в мои воспоминания и смешались с ними. Ослица, например, умерла от старости еще до моего рождения, но я ясно помню, как она ухитрялась воровать ячмень у лошади: когда та набирала полный рот, ослица кусала ее за шею, лошадь пыталась укусить ее в ответ, и тогда ячмень вываливался из ее рта, и ослица быстро подбирала его с пола.
— Я тоже помню это, — сказала Номи. — И еще я помню, как мы с ней ели гранаты, — сначала сидели на папином камне, а потом на той бетонной дорожке, которую он проложил для нее. И я помню, как она посылала меня ловить голубей и как она их убивала. Она растягивала их шею двумя пальцами, пока там не щелкало что-то, и тогда она чуть прикусывала нижнюю губу.
Мы стояли возле дерева вороньих собраний на кладбище Немецкого квартала в Иерусалиме, и Номи со смехом вызывала меня на соревнование, кто быстрее влезет на это дерево.
— Падать ты умеешь лучше, но забираться — я заберусь быстрее.
А потом она сказала:
— Я должна навестить мать Меира. Может, пойдешь со мной? Она живет недалеко отсюда.
Номи называла свою свекровь «мать Меира» или «госпожа Клебанова», поэтому я так и не знаю ее имени. Может, я и знал его, когда мне было пять лет и Номи с Меиром только что поженились, но с тех пор ухитрился забыть. У нее в саду был великолепный куст роз, миндальное дерево, уже прореженное старостью, и ползучая жимолость.
Ее розовый куст был каким-то особенным. Он был высотой с дерево и с шипами, как кошачьи когти, такой огромный и могучий, что вообще не нуждался в уходе и поливке, а запах его был настолько сильным, что прохожие останавливались, словно от удара, а мелкая мушиная живность вообще падала в обморок, заплутав в его глубоких цветочных лабиринтах.
Даже в дни войны и осады [64] Имеется в виду Война за независимость (1948–1949 гг.), когда арабские (иорданские) войска окружили и осадили Иерусалим.
, когда все декоративные растения погибли от жажды, этот куст, как с гордостью рассказывала госпожа Клебанова, по-прежнему зеленел листвой и даже не думал завянуть.
Читать дальше