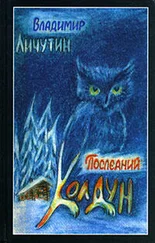И вдруг опомнились, скатились с угора по красному камню-арешнику к глинистой протоке, перепрыгнув, заглубились в калтусину, как в реку, и пугливо охнув, засмеялись, сразу вымокли по грудь, тяжелая роса осыпалась в наши следы, как стеклянные бусы с низки. А солнце уже оторвалось от земли, жар пошел от него, и мы, боясь опоздать на приливную воду, поспешили к реке, бездельно хохоча, сшибая султаны конского щавеля, зонты корянок и жесткие пахучие дудки-падреницы. Непролазная травяная дурнина коварно подставляла подножку, порою скрывала с головою и затеняла солнце, и мы с трудом продирались, спотыкаясь и ныряя в душистую молочную реку с кисельными берегами. Намокшая холщевая сумка с сырой картохою и банкою с червями шлепала о бедро, с хрустом лопалась на груди травяная путаница.
Неожиданно луговина раздалась в обе стороны, трава обредилась, перешла в жесткий мелкий осотник, под босые ноги сунулись теплые плешины рудожелтого песка, обнизанные розовыми лепехами заячьей капусты. Перед нами во всю ширь, завораживая взгляд, без единого рыбьего всплеска, молчаливо стелилась река, зеркально гладкая, с ледяными пролысинами на стрежи, аспидно-черными кругованами над омутами и серебристым толкунцом воды на быстери, будто на поверхность вылилась длинная стайка сороги. Река напористо катилась к морю, но уже вытопились макушки песчаных кошек, ребристые песчаные заструги вдоль берега обозначили водяные теплые заливчики (рёлки), в которых мы и купались до посинения. Зря мы спешили, было еще полуводье и до нового прилива оставалось часа три. Тычки продольников даже не омелились, и только кой-где показались из струи их вершинки.
Вдруг ещё издали мы увидали на песчаной кошке, далеконько от воды, обсохшую рыбину, темную по хребтине, показавшуюся огромной. Около неё уже бродила чайка-моёвка и норовила клюнуть в зашеек, но завидев нас, вскрикнула протяжно и тяжело, неохотно поднялась на крыло, по-кошачьи заныла, запричитывала над нашими головами, дескать, негодники и шалопаи, чего, вы, тут шляетесь и мешаете отобедать. Норовила присвоить чужое, да ещё и недовольничала, этакая свинья. У Вовки Манькина два продольника были поставлены «на загреву», расстелены вдоль берега, а не заброшены на глубину под глинистый крёж, как у меня, и вот ульнул ему сиг, килограмма на два, наверное, губастый, головастый, горбатый, с серебряным клёцком, для нас, мальчишек, редкий и завидный.
«Везет же Манькину», — подумал я, с завистью поглядывая на улов, на то, как приятель на корточках, сопя, освобождает от продольника добычу. Короткая шея побагровела, налилась кровью, а светло-русая густая щеть на затылке встопорщилась, как у встревоженной собаки. Вовка наконец-то достал крючок из рыбины и теперь норовил засунуть её в холщевую сумку, а сиг упирался, упруго выгибал хвост, ерошил спинные перья и пару раз, выскользнув из рук, грузно шлепался на песок, изрядно извалявшись и потеряв прежний блеск.
«Дай потрогать», — почти взмолился я.
«На, потрогай, — милостиво согласился приятель, но дозволил лишь прикоснуться к рыбьей темной хребтинке. Я хотел перенять сига, чтобы взвесить в ладони, ощутить приятную тяжесть, но Вовка тут же ревниво отстранился. — Сначала сам поймай, а потом и лапай», — сурово сказал он и, решительно изогнув рыбину в калач, все-таки запихнул её в обляпанную клёцком торбочку. Эх, как сумка-то взгорбилась, напряглась, как тяжело она шлепнулась о бедро приятеля и заколыхалась, когда перекинул через плечо. А как приятно её нести-то, братцы мои! Вовкины плутоватые глазки замаслились, щёки пуще прежнего загорелись румянцем. Но Вовка вел себя ровно, как природный рыбачок, не бахвалил, не егозил, не прыгал от радости, не блажил на весь белый свет, а был деловит и серьезен, лишь супил светлые бровки, вглядываясь в убывающую воду, когда, наконец-то, вытопит тычки его продольников. И только щёки ещё больше надулись от трудно скрываемой радости.
Теперь мы от реки уже не отходим, смотрим на отлив. С каждой минутой нетерпение овладевает нами, всматриваемся в витые струи воды, в неисследимые, недоступные глазу глубины, где идет своя тайная жизнь, где жируют семги-пудовички, сиги с локоть, поросшие мхом метровые щуки, сорожье и окунье, камбалы величиной с мамкину стиральную доску, и ползают по дну налимы с вислыми казацкими усами, про которых мужики бают страшное, дескать, те, как свиньи, жрут всё, что ни попадет, и даже едят утоплую человечину; глядим неотвязно в реку, забредя в воду по колено, и невольно чудится, что на каждом крючке конечно же сидит рыбина, а мы, как невольники в кандалах, беспомощно топчемся на берегу и не можем её взять, и оттого невольно забирают волнение и томление. Думаешь, хорошо бы костюм водолазный иметь с чугунными камашами или хотя бы особую дыхательную трубку, тогда бы вся рыба стала наша. Песок плывет под ступнями, ноги засасывает, уводит в глубь, под крёж, где и хозяинуют те самые жуткие налимьи брюхи, — и только тогда опомниваешься, с трудом выбредаешь на твердое, пришептывая замерзшими губами: «Чур меня, чур меня». Эти терпкие от волнения минуты ожидания — значительная украса рыбалки, может быть и сама драгоценная, притягливая и чаровная, ибо в это время кипит, обжигая сердце паром, отчаянная страсть. А там, как Бог даст, дело случая и рыбацкого фарта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу