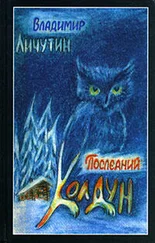Кто не бывал на весенних тягах и токах, кто не заражен охотою, тому никогда не понять необычности того настроения, похожего на молебен, когда душа переменчиво скидывается от неожиданной грусти до беспричинной, вроде бы, радости. Хотя всякому чувству есть повод, ибо сама умиротворенность вечереющей земли, необратимое угасание солнца, и кротость, стекающая с небес, невольно отпечатываются на человеке и завладевают сердцем. Вдруг беспричинно покажется тебе, что эта охота — последняя в жизни и уже никогда не повторится; вот пропадет однажды всякое внутреннее желание, охолонут кровь и молодеческий порыв, а там и сам собою сядешь на лавку, и уже не приведут тебя ноги на свадебные игрища в эти сыри и хляби, где празднует любовные часы удивительная птица, которую человеку почему-то хочется взять с ружья. Но печаль от мгновенности бытия тут же сменяется беспечным счастием, словно бы ты недавно народился на свет, а впереди тебе ещё не считано лет, и, слава Богу, что превозмогая лень, ты всё-таки выбрался на токовище, а, значит, за верность заведенному уставу ещё не раз выпадет праздник.
Но лет птицы отчего-то запаздывал, хотя самое время ему быть, и с печалью сознавал, перетаптываясь с ноги на ногу и закидывая двустволку на плечо, что вместе с сиротеющей, утекающей в небытие русской деревней покидают землю и рыба, и зверь, и птица. Давно ли деревня полнилась народом, в каждой крестьянской избе висел в горнице иль в кухне над входной дверью дробовик, и только ленивый не ходил на охоты, — тетеревиные стаи паслись прямо за околицей, а кабаны заходили в огороды; но тогда послевоенные ещё не запущенные поля лежали до горизонта, куда хватал взгляд. А нынче я последний в этих местах, кто „по-тургеневски“ редко и несыто балуется охотой.
Вот ведь как сложно всё слеплено Богом, какой тонкой и нервной излажена связь между крестьянином и всякой живулинкой, обитающей на Руси. Мы как бы запамятовали, что многая лесная скотинка пасется подле крестьянского поля, спасается в лихую пору, прибредая к деревне из самой глухой таежной скрытни. Есть ржаная кулижка, картофельник иль овсы, — и тогда заяц сметывается на зеленя; скрадывая его, лиса невдали от селения роет себе нору; по осеням темными ночами выходит на потравы кабан-секач со своим семейством; выминает кругованы-дневки лосиха-мать, выедая копны соломы; сюда же, на поле, выбредает из тайги „подоить овсы“ хозяин леса — медведь; роет скрытию о край польца барсук и енот, середка ночи выбегая на поедь; на опушках после уборки хлебов сбиваются в стаи тетерева. И перелетный гусь-гуменник любит свалиться на пажити, чтобы поднакопить жирку.
Но вот пропадает, зарастает сосенником и березняком русское поле, ложится в землю пахарь, и скоро совсем очерствеет, оскудеет без него весь живой мир. И охотник станет за предание, а вместе с ним исчезнут привычки этого сословия: предания, приметы, да и сам прихотливый язык, полный вымысла, смысла и дивной бывальщины — похвалебщины.
Темень неумолимо наползает из-за реки, скрадывает мир тихо, как-то воровски, зловеще, и тут же вспыхнула Венеpa. Леса почернели, сгрудились, двинулись на меня, и клубы ещё голого ивняка слились в холмистую гряду. Помнится, в это время уже успеешь настреляться, да и по всему горизонту не смолкает канонада.
Мой сын впервые на охоте, он сидит на сваленном дереве, бездельно полощет сапогами в водомоине, выхватывает волосяные клочи и развешивает их по иссохлым ветвям. У него свое дело, ему пока недоступны мои сполошливые, вразнобой, чувства, чередой набегающие на сердце и тут же потухающие в ожидании удачи.
Вдруг за рекой резко ударил выстрел, будто хлестнул пастуший бич; гул прокатился по-над лесами в подмерзающем воздухе. Я очнулся от туманных мыслей, спохватился, ладони мои разом вспотели. Вальдшнеп — удивительная птица. Она обычно наплывает с самой неожиданной стороны, летит величаво, вроде бы едва перебирая махалками, и чудится громадной, кажется ну куда тут мазать; но чуть зазевался, братцы, а её уже и след простыл. Особенная сноровка тут нужна и частые походы с ружьем. Но цена на патроны вскинулась в разы, и теперь по крестьянской натуре невольно прижаливаешь, учитываешь каждый заряд, чтобы зря „не пулять“ в молоко. Ведь каждый выстрел — буханка хлеба. Хотя, вроде бы и мазилой, братцы мои, тоже стыдно быть даже перед самим собою, но куда деваться, милые, если кругом прижали, поставили „к стенке нужды“ простеца-человека. Потому нет ни былой дичи в торбе, ни страсти на сердце.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу