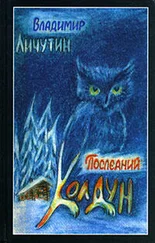Легкая, как тень, скользнула из одежды моль, оставив на сарафане желтое пятнышко пыли. «У ты, оборотень», — зло и растерянно вскрикнула Феколка и сотый, наверное, раз стала перетряхивать платья. Особенно взволновали тяжелые шелковые платы, гордость Феколки, ее состояние. Она рассыпала плат по засаленной поддевке, и он, приятно холодя шершавую шею, обтекал плечи и тело, уплывал мохнатыми бордовыми кистями к полу. Феколка поступывала широкими ногами по половицам, потряхивала плечами и воображала себя молодой: «Уж как Иванова матушка, она три часа радовалась, что сына спородила, высокошенького выростила». Потом почти девическим движением рук Феколка сбросила плат с плеч, тряхнула в воздухе перед самой лампой, белые розы, ослепительно вспыхнув, поплыли по алому нежному полю. Но будто желтая рябь проткнула плат. Феколка хлопотливо всхлипнула, всматриваясь в дыру, а там еще одна, и еще — изрядно поела моль. Каждый раз, осматривая сундук, Фекла видела, как тает ее девическое приданое: этот оборотень, серебристая и легкая бабочка, был безжалостен.
Плат выскользнул из жестких Феколкиных рук в темное жилье сундука. Какое-то отчаяние опрокинуло ее душу, словно оборотень отрезал от ее жизни лет десять, именно тех, о которых особенно мечталось. Феколка взяла со стола лампу и заспешила по комнате, осматривая все темные углы, и запечье, и наблюдник, залезла под кровать и под подушку, разыскивая ту моль с тупым наслаждением и отчаянием.
Она нашла ее на своей фуфайке, но не хлопнула сердито, оставив только желтую пыль, а, словно стеклянную, накрыла ладонью и так, собирая пальцы в пригоршню, прихватила все-таки бабочку, потом долго и с удовольствием рассматривала у лампы, говорила вслух:
— Теперича баловать со мной бросишь, ведьмино зло.
Из ватной подушечки достала иглу и приткнула моль к обоям. Потом вернулась к сундуку, чтобы продлить любование, но только ворохнула шерстяную, когда-то фасонистую юбку, как оттуда вылетело сразу два легких крылатых существа. Горе охватило старую Феколку, она опустилась на пол и заплакала от одиночества. Она плакала, словно ребенок, коротко всхлипывая маленьким острым носом, и верхняя усатая губа обидчиво подрагивала. Феколка часто сморкалась, размазывала слезы по щекам морщинистой черствой ладонью и причитала:
— Пойду к Кольке Азиату. У меня топоров много, да пилья много, да сарафанов сундук. Меня колхоз должен опри-ю-тить. Не мо-гу я так бо-ле жить.
Председатель Радюшин предлагал не раз и не два, мол, бабушка Фекла, одинокого человека и мышь пообидеть может, давайте я вас определю в дом престарелых; так нет, глазами сверкнет, фыркнет: «Я, да буду кусок из чужих рук глядеть? Тут хоть и плоховато, да пензия, в свое время встану, в свое время и поем. Мы у матушки, у татушки с детства неволи не видывали».
Что и говорить, был у Феколки Морошины родитель богатым оленщиком, не пятьсот ли оленей у него было, дом большой содержал, и мебель богатая по тем временам стояла: зеркала с фигурными кружевами, и стулья на венских гнутых ножках, и сервиз чайный тонкого фарфора. Феколка одна была дочь, ей потакали, а была она высокая, коса черная, смолевая, с руку толщиной, щеки круглые и словно клюквой обрызганы, оттого и прозвали ее Феколка Морошина.
Отец у нее сразу после революции умер, оставив наследство. Правда, его никто не считал и в сундуки не заглядывал, но поговаривали, что большое. Еще Сашка был, брат, но с ним тоже неприятность вскоре приключилась. Пришел однажды к Паранькиным братовьям в гости с приятелем, и тут привелось вдруг — выскочила из опечка мышь. Ее поймали да вынесли на улицу. Завозились с мышью, и Сашку нечаянно приятель о жердину толкнул, и у Сашки спина хрупнула. А тот сгоряча приятеля стеганул палкой по спине, и тоже что-то хрупнуло. Оба поболели и на одном месяце умерли. Так Феколка Морошина осталась одна в огромном доме.
Потом время пришло любить, возраст такой, когда смутные сны тревожат ночами и томлением сладким сводит спину. Но, может, красоты ее боялись, может, наговоры злые были спущены на Феколку, только не брались провожать ее парни домой и на посиделках стороной обходили.
А она-то на вечеринке головы не клонила, спину строго держала и на коленях даже самым кавалеристым парням сидеть не позволяла, хотя принято было так, — боялась уронить себя. Но, как вернется в пустынную избу, пройдет темной поветью, боясь собственных шагов, да упадет на кровать, тут и лезут греховные мысли, тут и приходят обильные слезы. Тогда вспоминала Феколка вечеринку от первой минуты до последней, кто на нее взгляд бросил да кто руки нечаянно коснулся. Мелкие парни да веснушчатые, те не в счет, но вот Мишка Сырков сегодня по-особенному глядел: семечки сплевывал, а глазами в ее сторону так и насверкивал. Нет, не могло ошибиться Феколкино сердце, вот она, любовь. Пришла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу