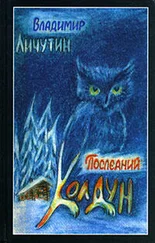— Тьфу ты, нечисть проклятая, — опять испуганно шептала Феколка, отдирая тело от горячих камней, легкий щемящий холодок продирал кожу, старуха ширила глаза, всматриваясь в страшную рожу, пока не припоминала, что висит там старое сито и обрывки сетей. Волнуемая темнотой и тревожными призраками, Феколка понимала, что уснуть не в силах, тяжело спускалась с лежанки, крестилась, чесалась, охала, поминая нечистую силу, садилась на сундук, тот самый, который видела во сне и который действительно спасли, когда сгорел отцов дом, былое ее свадебное приданое, и долго так сидела, не шевелясь, всматриваясь в светлеющее окно и дожидаясь света.
Сегодня Феколка опять сходила в часовню, еще одно платье подарила спасителю, чтобы «ослобонил разум от диавола». От дождя у нее ныла спина, и будто муравьи бегали по голове, так сильно щипало корни волос. Хотелось содрать платок и распахать ногтями кожу. Феколка ходила к фельдшеру, и тот сказал, что это от нервов. Феколка выругала фельдшера, обозвала придурком и сама определила болезнь свою, мол, у нее дурной волос растет на голове. Но, обругав фельдшера и дома намазавшись салом, Феколка облегчения не почувствовала и решила, что от дурных снов напала болезнь, и тогда захотелось снова сходить в часовню и исповедаться.
Когда еще собиралась только, обласкивая Альму, ведь одинокий человек и собачке рад, встретила взглядом племянника. Давно не видала парня, а тот, гляди-ка, совсем мужиком стал. Сразу вспомнились и свои помершие Федя, Ванюшка и Николка и подумалось, что и они бы ныне, пожалуй, мужиками были, а она бы, Феколка, внучат нянчила, и не так бы пришлось ей жизнь коротать.
И, уже отмолившись, отплакав короткие слезы, она Степушку не забыла и шептала какие-то хорошие слова, будто бы своим парням, мол, дай тебе бог хорошую невесту, да богатый дом, да чтоб без ссор прожить и мусор за порог не выметать.
Феколка шла по Кучеме, трудно поднимаясь на крутой косогор, часто скользя калошами, потому вся распотела и даже черный монашеский платок отодвинула повыше, обнажая высокий лоб. Сальные смоляные волосы, которые и старость не брала, не облила белой краской, сбились на худое желтое лицо. Нервными, горячими глазами она сегодня не смотрела под ноги, а чувствуя в себе неожиданную свободу, выглядывала окна, словно, причастившись перед богом, имела на это большее право, хотя в обычные дни выше земли не поднимала глаз Феколка Морошина.
Навстречу, чуть сгорбившись, шел мужик в парусиновой куртке и долгих резиновых сапогах, он, наверное, что-то нес за плечами. Приглядевшись пристальнее, узнала вскоре Саньку Морозова. Опять в тайгу сбродил, браконьерил, семгу воровал. Ой, как ожглась на нем Феколка, до сих пор даже на пустые руки дует.
Лет пять назад постучался в ее домишко, попросился на ночлег, а у самого изба на другом конце деревни, ведь не за сто верст топать на ночь глядя. Феколка на собаку цыкнула и гостя впустила. Тот в комнате долго шевелил длинными белыми бровями и кривым латаным носом, даже плакал, кажется, и сказал, мол, в семью не вернется, совсем с женой расскандалили, а он Феколке хорошо уплатит, пусть только приютит на несколько дней.
Хорошо знала Феколка «прихильника окаянного», а тут вдруг поверила — ее счастье на пороге. Ну, молод, двадцать лет разница, эка беда. Эта мысль уже позднее пришла, когда общим столом зажили…
На деревне Феколку заплевали, двоюродница Параскева прокляла, в магазине плечами затолкали, однажды чуть в прорубь не спихнули. Кто бы в душу мог залезть да посочувствовать ее одиночеству? Небось живут, красуются, есть к кому голову приклонить. Заплевали Феколку, мол, бесстыдница она и залить бы ее адское нутро горячей смолой — и такие посулы были, — раз отбила сорокалетнего мужика от жены да четверых детей.
А Морозову что, только похохатывал на людях, да Феколку кастил по-всякому, подсмеивался над ней, рассказывал, как она к нему ластится да невинность строит в шестьдесят-то лет, будто с Марса свалилась. Люди слушали и тоже подсмеивались, когда играл он длинными белыми бровями и кошачьи круглые глаза мерцали отчаянно и злобно. Невозможно было не поддержать Морозова, черт знает, что у него на уме, может и ножом под ребро садануть, было и это однажды, за поножовщину пять лет отсидел. А в магазине Морозов отталкивал очередь плечом — худой сам, как жердь, но кричал громко и все матом, а потом, когда начинали роптать люди, жаловался, мол, инвалид он и ему положено без очереди. И только Параскевы Осиповны побаивался он, потому как та не робела, а своим квадратным телом напирала на Морозова, сбивала его в угол и кричала в кошачьи глаза: «Какого лешего, инвалид. За двадцать километров семгу воровать ты не инвалид, от жены убегать к Феколке Морошине ты не инвалид… Бесстыжа ты харя. Да ту бабу, что народила тебя, нужно было свинцом, оловом запечатать, чтобы на свет такого ирода не выпустила».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу