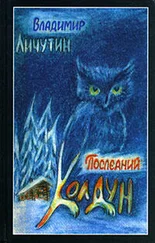«Что ты наделал, дурак? — прошептал я. — Ты же меня убил».
«Подумаешь, убил, — хихикнул Вовка Манькин. — Но ты же не умер. Если бы ты умер, тогда другое дело, — деловито подвел он итог и протянул руку. — Давай выдерну».
«Не подходи! — зарычал я, — а то сейчас схлопочешь».
Дружок по утячьи вытянул короткую шею, стараясь получше рассмотреть следы своей проказы; густая волосня на голове вздыбилась.
«А здоровски получилось. Смотри-ко, и кровь. Настоящая кровь. Только ты матери на сказывай, что это я тебя так. Я тебе красной резины дам на рогатку.» — Вовка перестал противно хихикать, лицо его удлинилось и побледнело.
Бордовая брусничина выточилась из ранки, скоро набухла, лопнула, и ниточка крови протянулась по коже. Стоять навытяжку со стрелой в груди надоело, и я выдернул её за наконечник. Плюнул на ладонь и, как водится в народе, слюною замазал ранку. До свадьбы зарастет.
Вовка вдруг наклонился над зыбкой и сделал пальцами козу рогатую. Я испугался, что братик заплачет, и закричал остерегающе:
«Не лезь грязными пактами, куда не просят! Не тобой положено — вот и не трожь!»
(Мы, дети, не замечая того, повторяли речи взрослых.)
Но Вовка, не обращая на меня внимания, низко склонился над кроваткой, любопытно разглядывая ребенка:
«Гли-ко, сколь малеханно, а уж всё при ём. Настоящий мужичок. — И добавил грустно, развесив губы. — А у нас мамка девку в капусте нашла, вот Такая рёва-корова. А мне водись. — Вовка Манькин запустил руку в карман, помедлил и вдруг добыл пригоршню острых сажных осколков, сверкающих на изломе, высыпал мне в ладонь. Похвастал, густо зардевшись. — У меня ещё много. У мамки чугуник нынче разгрохал. Еще не знает. Здоровски бьют. Фанеру наскрозь».
Вовка потускнел, наверное представил, как мать нынче выходит его ремнем за проделку.
* * *
Сколько подобных картинок детства не оследилось в памяти, иль померкло, затаилось в уголках таинственной души, чтобы вспыхнуть неожиданно во сне. Если бы их каким-нибудь неисповедимым образом вызволить из забвения друг по дружке и сплавить звеньями воедино, то получилась бы неповторимая золотая цепь детства, которою и приторачивается неизбежное ярмо грядущей жизни к матери-сырой земле.
«ДУША НЕИЗЪЯСНИМАЯ»
«Нынче расплодилась прорва психологов. Они уверяют, что омертвелость души, глубокая душевная хворь начинаются в младые годы; якобы, корни её можно отыскать, исследуя детство преступника; дескать, птичек стрелял из рогатки, собак таскал за хвост и бедным кошкам досадил, привязывая к хвосту консервную банку; якобы, от ранних дурных наклонностей до жестокого преступления прямой путь.
Но тогда как понять нас, миллионы послевоенных детишек, у кого любимыми забавами были игра в деньги („в пристенок“, „в лунку“, „в вертушку“) и стрельба из рогаток. Помню, с каким азартом трудились над своим „оружием“, хвалились противогазной резиной, а после с замиранием сердца шли на охоту в городской сад, окружавший кинотеатр и танцевальный пятачок; скрываясь в тенистых зарослях черемухи, скрадывали синичку-теньковку с ее серебристым прерывистым голосишком и со всей силой тщедушного малорослого тельца лупили по птахе осколками домашних горшков. Боже мой, сколько было перебито чугуников, сколько грозы насылали на наши головы уставшие вдовы-родительницы за детские проказы, как пытались совестить и увещевать. Они-то знали, уже пройдя этот же путь взросления, что нельзя убивать понапрасну божью тварь, попущенную Господом на белый свет. Но все, такие верные, вроде бы, слова отскакивали, как от стены горох.
Помню, как мелко дрожа от возбуждения, словно от лихорадки-знобеи, тискаешь в горсти крохотное пушистое тельце синички с замирающим клювиком, закатывающимися горошинками глазенок, и сердце не смущалось, не замирало от этого бессмысленного на первый взгляд убийства, потому что мы воображали себя охотниками, добытчиками, пополняющими семейный котел. В нашем провинциальном саду на скрытных его глинистых тропинках, в зарослях морковника и лопухов мы проходили первые уроки мужского взросления.
Но вот по прошествии многих лет я не припомню никого из нашей уличной орды, кто бы споткнулся в будущем, совершил недостойное, иль уклонился от воинской службы, упал в воровство и обман, „снасильничал“, покусился на чужую жизнь. Все выросли духовно здоровыми людьми, близко подошедшими к Богу. Ведь ребенок по животной своей природе жалостливо жесток, его душа воршится пока в пеленках, едва сучит ножонками, и сколько страстей придется перетерпеть в будущем, пока-то душа научится печаловаться за ближнего. Ребенок — существо вечное, он не осознает всего ужаса смерти, даже наблюдая его вплотную. Раньше детей не берегли от печальных картин, всегда подводили ко гробу усопшего, не прятали за спины, чтобы не смущать сердечко; на глазах ребенка резали скотину, разделывали коровью тушу, рубили птицу. Помню, с каким трепетом и ожесточением я откручивал голову первой добытой в лесу куропатке, потом подвешивал к поясу, вытирая кровавые ладони о жесткий снег и о полы ватной подергушки; и пока попадал на лыжах домой через болото, всю дорогу радостно представлял, как обрадуется мать моей добыче, как примется теребить птицу, после опалит на огне и поставит в печь упревать. Ведь я нес на поясе еду для всей семьи, а значит стал настоящим добытчиком, кормильцем. От рогатки в кармане, до пойманной куропатки, в сило-целесообразный путь природного оформления человека.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу