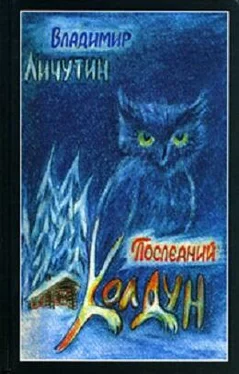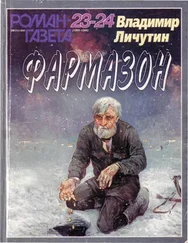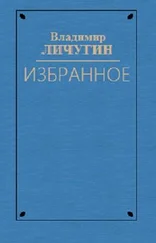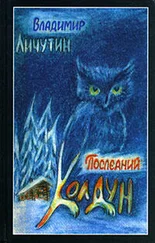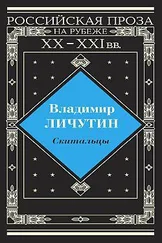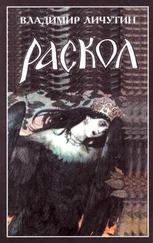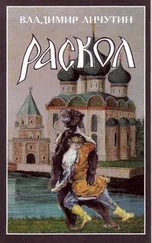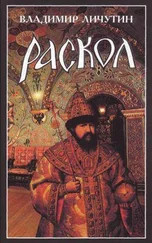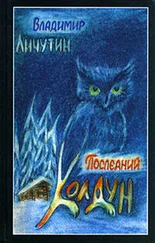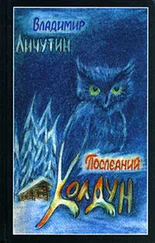И вот явились первые гости, с мороза румяные, принесли с собой холоду. И, Боже мой, сколько тут суматохи, всхлипов, целованья, коротких слез. Давно ли минула война, одни — не вернулись, от других — нет вестки. Женщины не проходят сразу, а ревниво оглядывают стол, уставленный вазами, блюдами и суденками: посередке, как водится, огромный румяный крендель, усыпанный изюмом, лежит важно, как прикопеченный поросенок, а возле торт песочный, да торт шоколадный, да торт вафельный, да торт кремовый, да торт кофейный, да торт «наполеон», пряжье, да всякие розочки и ромовочки. И чего только нет на столе, глаза разбегаются. И неуж все слопают? — прицениваюсь я к изобилию. — Да нет, пожалуй, не осилят. И от этой мысли мое настроение поднимается еще пуще. Сестры Анюта и Вера Братиловы в коричневых салопах, в черных кружевных накидках поджимают губы, прицениваются к вавилонам печеной снеди. Тетя Анюта высокая, с породистым иконным ликом и глубоко посаженными в сизые обочья глазами; тетя Вера рыжая лицом и волосами, низенькая, квадратная, будто кубышка, с прищуром накренясь над столом, слегка покачивается на плотных, «бутылечками» ногах и чего-то упорно выглядывает в тарелках с выпечкой… У нее свое на уме. Бабушка опережает пересуды, словно боится охулки на свои труды, морщится мужиковатым лицом, и как заведено у мезенских мещан, сама себя нарочито низит:
«Ох-хо-хо, — вздыхает, — и бизе-то не получилось, вяло како-то. Будто морожены лягушки. — Хотя бизе сверкает снежной белизною в хрустальной вазе. — И „наполеон“-то совсем скорчило, корки съежились, крема не держат. Уж тако нынче масло пошло, одна вода да пена, хоть и не клади совсем. А на слоенки, деушки мои, и глядеть не хочется, запрыщавели все да замодели».
«Нет-нет, слоенки, Нина Александровна, ты не похули. Слоенки — видом продать. Ты бы секретом поделилась», — в очередной раз прихваливает Вера Братилова, и бабушка, словно бы дождавшись поощрения, скоро делится секретом: «На стакан сметанки масла возьми граммов пятьсот. Не поскупись, Верочка, ведь сметана нонеча не жирная, может простоквашки уливают. Соли с полчайной ложки. Солено не вкусно. Столову ложку вина надо улить, да столову ложку песку сахарного. Подмесишь с мучкой, да раскатаешь под скалом. Масло нарежь тонкими ломотьками, да на тесто уложи рядочками, сверни в поленце, да и снова скалкой раскатай. И так на три раза… А жар сильный в печи не держи, чтобы низ не пригорел. Вот и вся хитрость. Было бы из чего стряпать, деушка.» — Бабушка горделиво обводить глазами стол, на щеках ее вспыхивает румянец. Она сразу молодеет.
«И я вроде бы такожде выпекаю, а как бы чего не хватает», — оправдывается родничка.
«Ага. То и не хватает, талану не хватает, мать. Одна мучка да разные ручки», — весомо говорит ее сын Юрий, рыжий, как пламя, спички о его волосы можно поджигать. И с этими словами смотрины стола заканчиваются.
Гости начинают греметь стульями, протискиваться по чину и ряду под фикус и чайные розы в кадушках, каждый знает свое насиженное место. И уже за столом женщины снова ревниво прицениваются, каково напечено, да каково уряжено, словно бы с венского гнутого стула видно всё до мелочей. А мужчины, степенные, деловито-стеснительные, накурившиеся до такой степени, что кажется уши покраснели, как волнухи, и опухли, усаживаются в нижнем конце стола, второго приглашения не ждут, их стряпня не волнует и закуски не задерживают взгляда, но сразу принимают на грудь по граненому стакану морошечно-желтой браги, да вдогонку и по второму тяпнут, пока посудинка не остыла и чтобы разгорячить натуру. Бабушка этот момент ловит, боится пропустить, и, не промедля, уже несет чай в фарфоровых тонких чашках; зорко дозорит хозяйка, чтобы не окривел кто второпях, ведь с морозу коварная брага скоро себя выкажет и подставит задорному гулевану ножку. А там невдолгах и под стол кувырк. «Пей-то пей, почто не выпить-то, да ума не пропивай, — говаривали старики. — Не говорю — не пей, а говорю — не упивайся… Не проклято вино, а проклято пьянство. Ибо вино — есть кровь Христова». Вот чай-чаище и усмиряет пыл ретивого человека, не дает ему дурного разгону, когда все трын-трава, когда разбуженный норов не только попускается на веселье, но и на всякую дрязгу и буйство: ведь что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
И долго ли вилкой повозят в тарелке, осадят закускою хмель, помирволят благоверным, что дозорят возле, а уж и песня занялась, будто кто в распахнутую фортку вздохнул протяжно, впустив в горенку сеево морозной трухи, — такой тонявый, жалобный, неверно-робкий голосишко вынырнет из сумеречного угла, из-за чайной розы, гордовато расщеперившейся в пузатой деревянной кадце, и прошелестит по-над столом. Звук этот, наверное, не толще человечьего волоса, и лишь чутьистый, подготовленный слух уловит его за бряком-гряком посуды и монотонными бабьими пересудами. Эй, кому там не утерпелось? Кого за язык потянуло запеть? — недовольно вздернется иная женоченка, еще не успевшая толком отпробовать угощений, иль занятая досужей беседой, когда новость цепляется за новость и тем перетолкам не станет конца. Но невольно навострит гостья ухо и мысленно потянет за ниточку такой памятный с детства мотив, хотя в песню включаться душа еще не готова, и сердце стопорит. О грустном, быть может, перетирали вдовицы, о незаживаемом, и не дело перекрывать воспоминания песнею, когда мужние косточки еще не истлели в чужих землях. Ох-хо-хонюшки. Святый Боже, Святый крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Мертвым вечный покой, а живым-живейное и от него ничем не заградиться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу