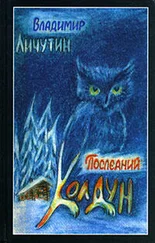— Я, было, в часовенку, оветному кресту поклониться, — монотонно бубнила Феколка, но в розовых вздернутых к вискам глазах порой вспыхивал испуг и пропадал. — Зашла в сенцы, смотрю, кошачка. Причудилось, думаю? Нет, кошачка… Кис-кис, зову, а она-то хр-хр на меня. Ах ты боже, лешачина, однако. Глазиша горят, бесовские усы торчком. Я-то: свят, свят, на нечистую силу крестом, гражуся от нее. А силы-то крест не имеет. Зверина — во. На гнездышке сидит и хр-р. Кошачка такая… А я-то ей: кис-кис, хых-хых, — вроде бы засмеялась Феколка иль в груди булькнуло кашлем, и на плоских серых щеках ее пробились неровные багровые пятна. — А я-то ей: кис-кис… Галенье одно.
— А ну ее, глупу.
— Что он, зверь-от, повадился. Ему в лесу житья нету? Он пошто на народ-то пошел, а? — бормотала Феколка, уже забытая всеми.
Справила Матрена по усопшей матери сороковой день и всерьез засобиралась к детям в Мезень: да еще и председатель напел на ухо, дескать, хватит отцу потакать, а круче пригрози — он и обмякнет. Вот и завелась дочь сразу на высоких тонах, да с окриком:
— Я остатний век свой чичкаться с тобой не буду, Геласий Созонтович, не-е. Думаешь, сел и поехал? Ты над нами-то пошто смеешься? К богу поворотился, дурак старый, а нам жизнь заслонил. Мы же через тебя выходим проклятые… Он бога молит, а черта творит, он креститься забыл как. — Задохлась Матрена, только на мгновенье запнулась, чтобы наполнить воздухами ослабшую грудь, да и вставные железные челюсти давали слабину, чвакали на худых деснах, готовые вывалиться, и баба их губою придавливала. Необычно распаленная была Мотря, какая-то старообразная нынче, без постоянной своей улыбки, так молодящей лицо. Да и что скрывать: под шестьдесят ближе, чем к пятидесяти, и нервишки поизносились. Концы шали серой спрятала в жакет — вот и вовсе старуха. — Ты же не с того плеча крест святой кладешь, тюха. То он церквы рушил, иконы под задницу пехал, а нынче у бога милости просит. Он-то ужо посме-ет-ся над тобой…
Отец лишь покряхтывал, пристально уставясь на темный образок в простеньком жестяном окладе с венчиком мертвых бумажных цветов, сунутых в прорези над головой святого: еще покойная Полюшка старалась, выкуделивала для басы-красы. Выходит, она-то верила? А я ни разу не видел, как молилась… Из мутной глубины выглядывал на Геласия такой же, как и он, старик с пыльной сквозной бородой, скуластый, с птичьими кроткими глазами, полными усталости, сожаления и остережения. Словно в зеркало смотрелся Геласий… Левкас на шее Николы Поморского выкрошился, длинная трещина вызмеилась на костлявое плечо, покрытое когда-то голубым хитоном, и чудилось, что это плохо заживший шрам, след смертельной раны, едва не отделившей святую голову от изнуренного тела… «Есть на свете три неба: первое небо в роте, второе — в печи, а третье — это горнее небо. А я и не видел его». И помолился Геласий, с плеча на плечо кинул щепоть, привыкая к давно забытому движенью. Легче ли ему стало? Бог его знает, но только вроде бы покойней, ровнее на душе. Если бы еще не Матренка за спиной: завелась, кипяток, не обуздать. Вожжаться с ней, стервой, неохота, а то бы усмирил. Как это, на батюшку родного да голос подымать? Матери-то, видно, здорово смерти желали, прокуды лешовы…
В последний раз говорю: едешь со мной? — Стянула Матрена концы узла, с досадой придавив мякоть его коленом, вскинула за плечо, но у двери вдруг завязла, вроде побаивалась порог переступить. — Ксюха меня наставляла: «Не поедет отец насовсем — оставляй, пусть живет, как хочет, нечего с ним чичкаться». Ведь ты гостился у меня, тебе нравилось. Чего еще надо?
— Не ори, — оборвал Геласий.
— Да ты ж глухой…
— Не ори, не глухой, — тихо повторил Геласий, так и не обернувшись к дочери, словно бы дожидаясь, когда уйдет она и оставит в давножданном покое. — Еще мати говорила, а она-то знала. «И наступит, — говорит, — то время, и придет мелкий человек, и будет в нем разжигание…» И в тебе, девка, бес галит. Наказанным умом да преданным животом много не наживешь.
— А ты, Мокро Огузье, за восемьдесят лет много ума нажил? Где он, ум-от… в издевательстве твоем да в мучительстве? — снова восстала Матрена и тут растерялась, отчего-то клетчатый узел бросила к порогу, уселась на него плотно, устало, загородив выход. Геласий оделся тепло, шарфом замотал шею, едва пропехнулся в дверь, минуя дочь, а та и не ворохнулась даже.
«Ума-то не нажил, доченька, нет, не на-жи-ил… вот и страдаю, — бормотал старик, по застарелой привычке осматривая с домашнего крыльца милую сердцу деревню. — Все для живота стремился да вас ростил, милушки, а прочее и выпало. Куда ни гляну, и все внове, будто слепой был. А может, и не я жил, кто другой за меня жил? Может, жизнь-то моя после наступит? Изжил вот себя, а куда изжил, какой прок в моем быванье на матушке-земле? Как зверь из темного лесу: пришел — и ушел… Если для детей прозябнул? — так они на сторону пущены, какой в них прок, когда кончины моей ждут не дождутся. В работе толк? — но она неизбывна и неиздельна, и радость от нее кой-когда, редка уж очень. Для страданья вылез на свет? Так не понять, какая радость от того для прочих; иль, может, верховному искусителю желанны мои мученья. Но ведь что-то же изнасеял на земле, на кой-то хрен пророс сквозь темень? Может, для любови? Но Полюшки нет — и все отлетело, и я бестолково тлею на кострище, как головешка худая, копотью свет в чужом окне застил. И жизнь-то кляну: вроде бы в наказанье, выходит, она дадена, такая долгая, а попробуй, решись отнять ее у себя. Есть ли больший грех — нарушить святой завет рожденья…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу