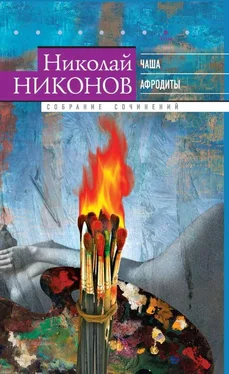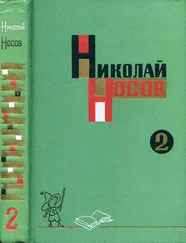А она улыбалась:
— Я все могу! Видишь? И не устал! Все могу… Может, ты еще и узнаешь, что я могу… Ни все сразу… Все сразу узнаешь — разлюбишь. Миленький мой!
Я еще не знал, что, когда женщина обладает тобой или ты обладаешь ею, она может давать тебе любые клятвы, может кричать, что ты единственный, самый сильный, самый прекрасный, замечательный, любимый… Женщина может, и ты веришь, как верят в счастье и в то, что оно бывает… И в то, что все это одна сплошная ложь.
Сейчас я думаю, что Надия была особенная женщина, потому что непрерывно создавала тот праздник, который делал меня ждущим радости, какой я даже представить себе не мог раньше. От нее шло непрерывное, сильное сексуальное или еще какое-то такое эротическое, да просто женское возбуждение.
В чем оно было?
Было буквально во всем. В ее походке — она ходила с грацией слонихи, но слонихи молодой, игривой, смеющейся (если слонихи умеют смеяться, а наверное, умеют!). Когда она надевала платок, повязывая его так, как обычно носят-перевязывают малярки, я не мог отвести глаз от курносоватого нежно-бабьего профиля, любовался ее овальной щекой, всегда в пунцовом румянце, ее губами, крупными, но не резкими, которые могут и обиженно плакать, и добрыми, простодушными, щедрыми, розовыми, без всякой помады, любовался ее подкрашенной бровью, которой она умела томно играть, и коричневой челкой, наискось из-под косынки. Я особенно любил ее, когда она желанно раскрывала губы и кончик нежно-розового языка дразнил меня, просовываясь меж двумя подковками зубов. Зубы Нади были выше всяких похвал и, наверное, вполне заслуживали всех этих эпитетов: белоснежные, ослепительные, у нее никогда не пахло изо рта, а вернее, запах был чистый и приятный, сходный с травой. Однажды я сказал ей об этом. «А я ромашкой рот всегда полощу, — ответила она, — вот обычной, на дворе растет. Хорошая травка!» И так же, уж признаться, пахла ее вагина, необыкновенно прекрасная, узкая, с двумя розовыми, кругло удлиненными валами и розовым же цветком меж ними. Волос тут у Нади, как у всякой чистоплотной настоящей татарки, не было, и это мне особенно нравилось. Она казалась так моложе и чище, просто крупная тяжелая девочка. Девочка в сорок лет!
Я любовался Надей, когда она одевалась или раздевалась, неторопливо двигаясь по комнате. Уже говорил, что носила она только длинные панталоны и никогда трусики, тем более не плавки.
— А… Нивкусные они, — объяснила, — ниженские. Женщина должна быть в таких штанах — так она желается лучше. А на резинку вот так надо. Вот так! — и, хохотнув, показывала язык. — Ага! Уже попался? Штаны для женщины — первое дело. И для мужчины понимающего — тоже. Цвет… И все такое, и ризинки. Я дак мимо никаких ритузов пройти не могу. Где продают. Увижу хорошие — сразу беру. У меня их штук сто будит. На всю жизень хватит.
Или укладывала полновесные груди в чашки бюстгальтера, жаловалась:
— Ай, тижолые. А перед ЭТИМ болячие. Ненароком заденешь — ойкнешь. И бегать мешают, и работать. Такие пративные… Хм.
Потом она надевала короткую широкую сорочку с кружевом и трикотажное платье.
Красилась недолго. Чернила только ресницы, особенно в углах век, приобретая после этого взгляд, который кто-то назвал у женщин неотразимым.
— Ну, пошла я, — говорила она.
И я провожал ее всегда на крылечко барака, дальше она не позволяла провожать: «Что люди про миня подумают?» Но, уходя, всегда оглядывалась — нет никого? Улыбалась плутовски и шла дальше, нарочно извилисто вертя ягодицами, — они двигались у нее будто сами собой, были одушевленными.
Но бывала она и другая. Вдруг и всегда почти внезапно исчезала дня на два-три. Я ждал, изводился. Работала она уже где-то на другой стройке. И я не знал — где. Спрашивал. «Зачем тибе? Что люди подумают? Я ведь замужняя все-таки». А на мою ревность, когда являлась, всегда очень радостная и словно побитая и приниженная, ответ был один:
— К тетке ездила.
— Что за тетка? Какая? Сама говорила — нет родни.
— Есть… Дальняя… Да что ты миня ривнуешь? Муж ривновал, да ты типерь? Пришла вот. Никуда ни делась. И мужика у миня нет. Все к тибе хожу.
Но однажды, истерзанный этими ее уклончивыми ответами, за которыми чуялась какая-то ложь, я решил выследить Надю. И, как хищник, притаился близ ее общежития в ожидании, когда Надя придет с работы. Был уже конец октября, но стояло тепло. Низкое солнце золотило к вечеру пожелтелые, полуопавшие тополя, и на душе у меня, в тон вечереющему дню, так же вроде было солнечно и грустно… Надю увидел издалека. Шла торопливо, нагруженная сумкой и кошелкой со снедью. Так же, торопясь, зашла во двор, где стоял двухэтажный барак общежития. Забор кругом обходил порядочный пустой двор, там всегда сушилось на веревках белье, а посередине две гнутые железные стойки с натянутой рваной волейбольной сеткой. За разломанным забором я и ждал, бывало, Надю, если ходили вечером в кино, и смотрел, как играли в волейбол, неумело топыря руки, девки-строительницы и парни с мельничного завода. Теперь я остался ждать. По торопливой походке Нади понял, что она скоро выйдет и, наверное, пойдет ко мне. А вдруг не ко мне? Забор был хорошим прикрытием, и я бродил вдоль него, поглядывая, как бы только не пропустить Надю, там был и еще один выход в другую сторону (ко мне!) через широкий давний пролом.
Читать дальше