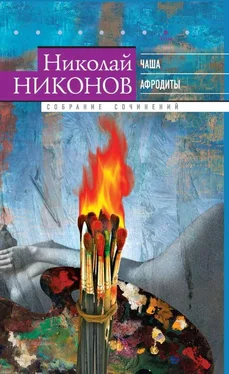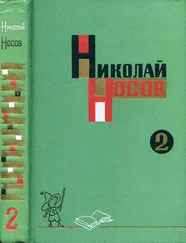— Ммолодцы! Молодцы!! И даже на подлинник дюже похоже. (А видал ты подлинник-то?) Молодцы. Справились с задачей. Я доволен. Все-таки… Мастера. Ну, давайте счас прямо… Спрыснем. По рюмочке… Ди-на!
В кабинете директора над диваном уже висела картина, и тоже копия. Шишкин. «Лес». Но «Лес» этот был тускл, замучен, видно, долго над ним трудились, с многочисленными доделками и переписками, а в живописи, чтоб цвела, надо в один мах, «алла прима», — краски в переписанных местах зажухли, почернели, тональности спутаны. К тому же родимые земляные эти краски: охры, сиены. Тусклый кобальт… Ясно стало, кто и писал этот «Лес». Директор понял мой взгляд, может быть. Совсем невольно, чересчур изучающе оглядел я полотно над диваном.
— Картины поменяю. Эту в приемную, а эту — сюда, — широким жестом.
Сергей Прокопьевич принял жест безропотно. Однако я понял, что теперь мой начальник, получив слишком бесцеремонное доказательство, не станет сильно восхищаться способностями подчиненного.
Выплыла Диночка.
Поднос с фужерами как бы в дождевых каплях. Минералка «Боржоми». Хлеб на тарелочке, тоненько, культурно. Сыр. Колбаска. Зачем-то лимон, нарезан дольками, обсыпан сахаром. «Для чаю, что ли?» — сообразил. На картину покосилась. Не понять. «Да Бог с тобой, подушка».
Директор тем временем достал из встроенного шкафа с сочинениями Ленина бутылку коньяка.
— Ну-ка, хлестнем, испробуем. Марочный! — возгласил он. На шее Сергея Прокопьича вверх-вниз прокатился кадык.
Сели в мягкие кресла. Самолично налил. Не скупо. Чуть не по фужеру.
— Ну-с? Ху-дожники. От лица руководства. Премию выпишем. И, как говорит партия: «Так держать!» — Повел глазом на два портрета: Ленин. Хрущев. Теперь вот здесь будет еще мой «Девятый вал».
Коньяк был горячий. Душистый. Пахнул чем-то вроде крепкого чая. Никогда я не пил коньяк. И закусывать его, видать, полагалось лимоном.
Директор смаковал, посасывал этот лимон. Сергей Прокопьевич хлопнул залпом. И весь залучился, точно это коньячное солнышко обогрело-прижгло снаружи и внутри.
— Как, Прокопьич?
— Хар… Харро-шо-о-о… Такого не пивал!
— Марочный. «КВ».
— Как танк, вроде. Помните. Был такой. ТАМ.
— Как не помнить! Как слоны танки были. «Клим Ворошилов». «КВ». Давайте-ка еще! То-то. Ху-дожники. Искусство… Как там? Требует… Требует жертв… Так? А что, друзья, мне бы вот картину хорошую домой? А? Чтоб не хуже… Лучше даже. А? Закажу?
— Сделаем! — тотчас подтвердил старший.
— Напишете?
— Сделаем! — еще суровее подтвердил, глядя на остатки вожделенной влаги.
Директор разлил.
— Так считаю — договор в силе… Но! — поднял короткий сарделечный палец. — Надо — женщину. Ну, там, в постели, или как… И чтоб пристойно было, и чтоб посмотреть, конечно… Копию бы с не очень известной. А? Как подлинник… Смотрелась чтоб…
— Ренуар подойдет? — вместо меня сказал я. Язык мой сказал так.
— Кто? Как? А… Да… Наверно..
— Тогда я… Принесу альбом… Выберете. А может, вам с Кустодиева?
— Это кто?
— Купчих писал, — вставил Сергей Прокопьевич. (Тоже не лыком шит!)
— Купчих? Голых? Падойдет. Мне надо чтоб женщина. Вот как Дина! С такими вот! Такая… И там чтобы! — показал, какие должны быть у женщины и к а к а я. И «здесь», и «там».
А я сладостно подумал: «Видел бы ты мою Надю! МОЮ Надю. Надию». Тогда я не знал, что такое женщина. Еще не знал. И как опасно применять к ней это простенькое, собственническое и сладкое: «МОЯ».
Когда вышли из кабинета, откланялись Бернардине Августовне — снисходительно повела бровью, была чуть теплее, но все-таки высоко, недоступно: «А, знаю вас всех, вам только бы нажраться», — Сергей Прокопьевич сказал, заплетая косный язык:
— Ты тут ме-ня, то-во… Уволь… Уволь… Это… Я… Не поволоку… Сам давай… Напросил-ся? Ри-нуар… С тебя он счас… Не слезет… Я зна-а… Я… Его со школы зна… Скар-пи-он… Да… А коньяк ххо-рош… Ты ему только… Ска-жи. Шоб не наваливал… За-ка-зов… Хоть так… Отыграться. По-ал?
О, Ренуар! Жан Пьер-Огюст… Или как там тебя еще? Я благодарен тебе и твоей прекрасной натурщице. Директор выбрал «Девушку на обрыве». Обнаженная толстушка-блондинка на обрывистом берегу у моря. Молочное тело. Желтые косы. Восковая спелость… Картина эта понравилась и мне, но, главное, я освободился от диаграмм неуклонного подъема и других-прочих успехов торжествующего социализма, от всякого рода «призывов» и «транспарантов». А главное — обзавелся опять лефрановскими красками и кистями «Рембрандт»! Художники? Слышите меня? Такие краски светили только мастерам живописи, членам Союза художников и то по строгому отбору (не каждому!), а я завладел сокровищем — тубами в нарядных цинковых упаковках, в коробках под целлофаном. Тюбики были с удобными широкими ребристыми крышечками. Пиши, художник! Чистота красочных тонов поражала. И конечно, краски эти я тотчас же начал жадно копить, неучтенно беречь для своих будущих работ и, простите мне, не все расходовал на директорский заказ. Половину просто «взял» — пишите в деле — украл! Картину сделал за день. Еще день ушел на раму. Неделя на сушку. Неделя, чтоб просох лак. Но сделал, видимо, все-таки быстро и так, что тотчас за директором, расхвалившим мой труд, — похвастал и перед своими, явился с заказом главный инженер, за ним — заместители директора, главный механик, секретарь парткома — охотник. Этому понадобился, конечно, не безыдейный Ренуар, а старый русский художник Степанов — «Лоси на болоте», — ну, помните вы, наверное: лес, рассвет, полянка, стог сена и семья лосей около. Лоси — так себе. Написаны без знания.
Читать дальше