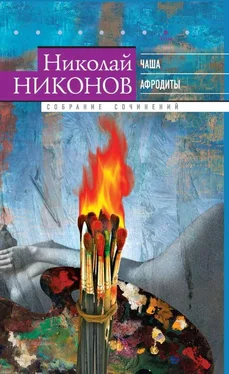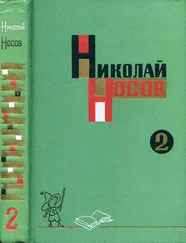Не знаю, как смотрели наши преподаватели на Венеру Милосскую. Но если нам, учащимся, все-таки и полагалось тушевать ее уравновешенные, не слишком выпуклые прелести, учителя как бы следили, чтоб и Венера на учебных рисунках гляделась как можно гипсовее.
Словом, я писал свой зачетный натюрморт как одержимый, нашедший наконец никем не реализованную идею.
Был пленен, потрясен, обрадован. Я решил для себя, кажется, главную задачу художника: писать истину в любом ее приближении и одновременно с тем, как я решал все в рисунке, раскладывал-намечал тени, уравновешивал и продумывал тона подмалевка, во мне, как в каком-то кипящем сосуде, поднималась злость на училище, на моих горе-наставников, на то, сколько без нужды и толка изведено красок, истерто кистей, испорчено картонов, покрыто этими тошнотворными сиренями, которые, как ни писали их прилежно, не становились ни пахучими, ни прекрасными в своих зануделых вазах, как не станут открытием и радостным откровением колосья с васильками, прилавки и подносы с виноградными гроздьями. Наверное, этого не убереглись и величайшие, раз не ушли от традиций. Пора поклонения пище, когда господствовали над миром ее певцы Йордане и Снайдере, когда окорока, битые гуси, индюки, рыбы, вино в бокалах и все другие земные плоды ломились из рам, пленяя гурманов и просто плотских обжор, прошла через столетия и в наших социалистических условиях, выродилась в тусклое изобилие колхозных рынков, совхозных свадеб. Натюрморт облинял, потерял свою радость. Его писали уже не Снайдерсы, а прилежные мастеровые, наподобие наших гениев Семенова и Замош-кина, им украшали теперь не стены гостиных, а панели харчевен и бань. Социалистическому натюрморту будто и не полагалось разжигать аппетиты, ласкать и лелеять вкусовые нервы. Он просто должен был славить подразумеваемое изобилие.
Мой натюрморт во всех отношениях был безнравственным и безыдейным. К какому наслаждению он звал? Какие должен был рождать мысли и образы? Грешные? Грешнейшие? Или даже непристойные?
Зато как писался! Рисунок я подготовил с железной убежденностью: только так может быть построена композиция! Все вещи-предметы организованы в высшем порядке. Закрепил отрисованное настоящим фиксативом. Теперь за кисти! И вот я впервые любовался своим рисунком! Мой рисунок нравился МНЕ! Он поразил меня своей свободной откровенностью. Обычно мне нравились рисунки других. И мысли, унижающие мысли о собственной бездарности, жгли-грызли душу. А тут я поспорил бы и с лучшим рисовальщиком мира. С самим Энгром! А когда закончил раскладку тонов, теней и полутеней, нашел колорит и фон и все опять закрепил жидким впротирку подмалевком — не стал вспугивать торжества. Меня бил озноб будущей удачи.
Я вытер кисти, снял палитру и пошел прогуляться на улицу набережной. Эта набережная и в детстве звала-манила меня и успокаивала почему-то. Здесь я катался когда-то на самодельном подшипниковом самокате, здесь любовался тайком на девочек, здесь подростком бродил вечерами, с угрюмым голодом поглядывая на попки взрослых девушек и ягодицы женщин в ярких крепдешинах. И свои первые акварельные попытки начал здесь, все пытаясь схватить широкие закаты над набережными и далями.
Весенний вечер вершил над кроткой, едва колеблемой водой свое спокойное торжество. Запоздалые чайки, мерно взмахивая, летели от заката к ночи, и чистым кобальтом синел вдали трамвайный мост. Крохотные беззвучные трамвайчики пробегали там, скрываясь за громаду замка-элеватора, громоздившего свои круглые высокие бастионы на правом берегу. Вечер был в тон моему настроению спокойного торжества. Так впервые было со мной, наверное, после гнетущей и до сих пор лагерной скованности, ощущения своей неустроенности и беспомощности. Несвобода еще давила мне спину каменными глыбами, еще лагерной проволокой стояла вблизи, и вот сейчас я наконец почувствовал счастливую, спасительную для души свободу и словно ее самый вкус с запахом спокойной реки и, быть может, близких летних дождей. Веяло с севера или с заката, отраженного в воде вместе с первыми дрожащими огоньками.
Вдоль набережной по гранитным столбикам, меж чугунными решетками стояли опять же памятные по детским дням гипсовые статуи: спортсмен-атлет в неприлично обтянутых плавках, летчик в комбинезоне, еще дальше, у спуска к воде, громадный шахтер с лицом Стаханова и всех стахановцев, с отбойным молотком, упертым в пьедестал, и в пару ему, на другом пьедестале, гигантская колхозница с бараном, которого она держала за рога. Великанша и шахтер были даже очень неплохо сработаны и как-то сочетались в своем грубом монументализме, не вызывая никаких других мыслей, чего нельзя было сказать еще об одной скульптуре, всегда занимавшей мое отроческое воображение: еще на одном столбе-постаменте девушка откинулась назад в броске с мячом. Здесь неизвестный скульптор явно пытался прорвать навязанный ему канон благопристойности и, несмотря на всю спортивность сюжета, создал такую обнаженную, что не один я, мальчишка, страдал тайной влюбленностью, проходя мимо, замедляя шаг, чтоб погладить взглядом ее круглости и закинутые, вздыбленные груди. Скульптура и теперь стояла на прежнем постаменте неподалеку. За годы моего заключения дожди и ветры испортили непрочный бетон (или гипс?). Бедра девушки покрыло трещинами, статуя почернела, стала грязно-серой. Но сейчас в сгущающемся сумраке я снова вспоминал детство, влюбленно смотрел на нее. Она дополняла мое освобождение.
Читать дальше