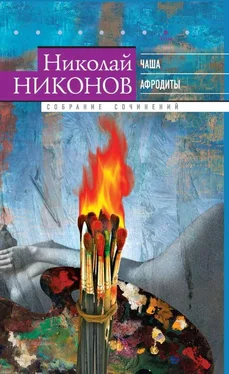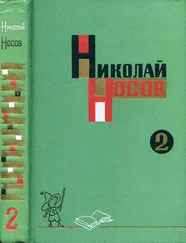Если не работать совсем, тянет уже повеситься, но делать этого я не стану. Веревка на шее — самый, наверное, страшный и мучительный самоконец. Делать этого я не стану. Я еще поживу, цепляясь за работу, чтоб не грызла тоска за уж вовсе впустую прожитый день. Таких дней в моей жизни мало, если только не считать лагерь, да еще когда выбивали из колеи эти вечные и постоянные отказы от выставок и Союза художников, в который я не мог попасть, как заколдованный. Для того, чтоб приняли, мало мастерства, нужно участие в выставках. Чтобы участвовать в выставках, надо писать радостные картины о трудовых подвигах, героях пятилеток, думающем о народном счастье очередном вожде, «верном продолжателе дела…» Ас этими картинами тебя и примут в Союз художников, и ты получишь право на участие в более высоких выставках, право на закуп твоих картин, право на признание?.. Но только не ты, Александр Васильевич Рассохин, Кэ-315.. Номер твой по-прежнему хранится в папках, не подверженных тлению. Да, я знал жизнь и знал, что мое неучастие в выставках и молчание о моем имени не просто случайное невезение и даже не следствие моих крамольных картин — понемногу ЖЕНЩИНА и даже ОБНАЖЕННАЯ уже появлялись на выставках. Их писали «молодые», у которых не было клейма и за которыми не столь усердно приглядывали «искусствоведы в штатском». Все это я знал, как знал и назойливое стремление некоторых «молодых» подружиться со мной, прийти в мою мастерскую с бутылочкой. Таких около художников крутилось несколько, и самый назойливый друг — некто Лепешкин, сладкая медовая личность, друг и приятель местных поэтов, художников-модернистов, фрондеров прозаиков и вообще неподобных. Для него и я уже, видимо, был на крючке. Этот Лепешкин, Виталий, «Виталька», осаждал меня просьбами посетить мастерскую, поболтать, «поговорить за жизнь». И тем упрямее я отталкивал его домогательства. Стукачей еще с лагеря боялся, как чумы. Липучие — всегда продадут, — знал старую лагерную мораль.
И еще впервые я понял, что мое железное, кажется, здоровье начинает сдавать. Кто там из мудрых врачей (а я старался к ним никогда не обращаться) сказал, что все болезни начинаются с расстройства нервной системы? Нервная система! А в лагере я ее не расстраивал? Очевидно — нет! Там расстраивать ее было бесполезно, если не хотел пораньше на свободу, за зону, в снежную яму… Там и само ничего не расстраивалось. Там было: или вкалывай, приспосабливайся мотать срок, или сдохни. А жалеть некому.
Уже тридцать пять лег прошло, и ничего не забыл, не тускли в душе эти лагерные картины. Иногда же их напоминали встречи. Видел я как-то Кырмыра, волчьей легкой побежкой катившего в район рынка. Встретил, лет десять уж прошло, и главвора. Ехал в автобусе старый, плешивый, с запавшими глазницами и что-то, по-воровски клонясь, втолковывал другому такому же жутковато ощеренному (улыбка!). Меня узнал сразу. Узнал — и обрадовался будто. «Сашка! Ввот встреся! Ззы-вой? И я тозэ, на сва-боде, мля! К коресу, вон еду… Это свой., свой! Мотали вместе. Садись, поботаем..» — волком глянул назад, где сидел какой-то угрюмый с виду парень. Кивнул все еще ласково ощеренному напарнику.
— Ну, ты, — напарник погасил свою улыбку, — место уступи… Сто-о?! Ты-ы, лошадье… Ну, потеряйся, сука… А то счас по крыше..
Парень «потерялся».
— Ну, вот… — главвор улыбался, — неусеный ессе. А то я сють не расстроился… Садись, Сашка. Все худознисяес? Он не вор… но так фрайер битый. Из политиков… В авторитете у нас был, картоськи рисовал, баб… Свой он… А я вот в отгуле пока. На дно прилег… Дя-я, знаем, сто такое са-ветская власть! Mo-зет, заедес? Пузырь есть. Глотнем. А то и здесь мозно. Клонись… Или в дело пойдес? Есть больсая замутка. Можно взять хорошо. Пойдес?
Я отказался.
— Ну, ладно, отдыхай… А я тебя все помню. Бабу ту, в литузах-то! Помню. Удрузил ты мне тогда. Я ссяс тозе Маньку туг насел молодую. Такая зе посьти… Зо-па-а! Вв-о-о… Только палка вот плохо слузить стала. Другой раз бросил бы ей лиснюю — а не пасет… Дя-я, знаем, сто такое са-ветская власть..
Вышли они на остановке «Психбольница». Главвор помахал кепкой. Только ссутулился, а так волк волком и остался.
Напарник-громила шагал следом. Вот она картина — будь я жанристом!
Что-то такое сегодня лезло мне в голову? Водки, что ли, выпить?
Я встретил ее как-то случайно, на трамвайной остановке. У нее был виноватый, осунувшийся вид, но когда я пригласил ее к себе, сразу согласилась, поехала.
И опять было как будто прежнее застолье. И вино, и ладное женское тело под рукой. И вдруг (вдруг!) пьяное, со слезами признание.
Читать дальше