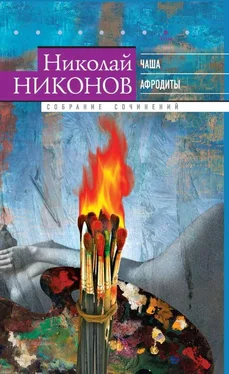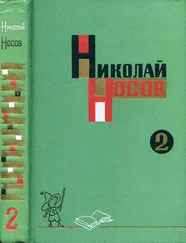Когда уставали от телевизора и пора было ложиться спать, она откладывала свою вязку и, лукаво поглядывая на меня, спрашивала:
— Ну, что? Будем?
— Можешь не спрашивать…
— А как ты хочешь?
— Со школьницей?
— С беременной?
Это была наша нечастая игра, и она очень любила ее, надевала пышную ночную рубашку, строгие белые штаны и, не позволяя мне их снимать, — можно было только, подняв рубашку, целовать и ласкать ее пышные набухшие груди и гладить живот, — умело и настойчиво-важно освобождала меня рукой и, добившись всего, ненасытно, жадно целовала, прижимаясь, дрожа крупным телом: «Это мы с тобой так будем, когда я буду беременная… Ты хочешь ребенка? Я так этого хочу».
— Может, хочешь с медсестрой?
— Хочу…
— Ладно. Сейчас я постелю, а ты жди.
И она стелила постель. На это стоило посмотреть. Она застилала нашу софу, как бы священнодействуя. Короткий халатик ее намеренно задирался. У нее был полный живот, и халатик туго утягивал ее в поясе, высоко открываясь сзади. Надо было видеть, как она наклоняется, расправляя простыни, как, подобно озабоченной девочке, надув губы, взбивает подушки, оправляет одеяло. Закончив все это, она подходила ко мне, обнимала, иногда даже становилась на колени и целовала меня, говорила обещающим голосом: «Ложись. Я сейчас..»
И я ложился в прохладные простыни, предвкушая всегда, как сейчас это будет, хотя и давно знал КАК, и она точно все это знала.
Как-то в один из особенно близких и сладких вечеров, когда мы, обнявшись под одеялом и уже сытые, лежали тихо и благодарно, целуя друг друга, я рассказал ей под великим секретом, как в моей юности, если не в детстве, медсестра
Марина развратила меня своими «медпроцедурами» и как я привык к ним и уже постоянно хотел, чтобы со мной была медсестра. Она слушала, а потом жарко и даже дрожа, прижимаясь ко мне, рассказала, как сама, еще девочкой, начала себя трогать, и делала это, и уже не могла отвязаться, и дальше, в школе, во всех классах, пока училась, — делала… «Бывало, только приду из школы — дома никого нет и уже прямо дрожу — хочу». И рассказала, как ложилась, спускала трусы и делала: «Сначала., так., пальчиком делала, а потом., потом — предметом. Ну, таким, сама придумала. О, как было… И — не могла остановиться… И думала… Какая я грешная. Очень боялась, что кто-нибудь., узнает… Тебе первому рассказала… Тебе..»
Помню, это признание обоих вызвало такой силы новый порыв, оба стонали, целовались до изнеможения и с распухшими губами, тесно прижавшись, точно потеряли сознание, уснули на рассвете.
А «с медсестрой» — это легко придумала она по моему рассказу. И я уже знал, что сейчас она появится в белой косынке поверх бигуди (так ходила и эта Марина!), в белых или в желтых панталонах (и это опять та давняя нимфоманка-медсестра!) и уверенно, пожалуй, куда увереннее, искуснее той, будет владеть мной, и я буду стонать от наслаждения и так хотеть ее, эту мою медсестру, что едва удерживался от… А она будет «наказывать» меня, «за непослушание», шлепать, «насиловать» и в конце концов, сидя на мне, могучая, полная, властная, завершит, облив горячим и нестерпимым под непрерывный, накачивающий стон: «Я ведь медсестра! Мед-сест-ра-а! Мед-сестра! О-о! Мед-сест-ра-а-а… ай!!»
Это было любимое наше занятие. И я всегда так жаждал ее в косынке и даже хотел, чтоб она ушла из этого проклятого мужичника и поступила учиться в медучилище.
И снова мое привычное мрачное одиночество. ОДИНОЧЕСТВО. После такого долгого счастья оно уже кажется невыносимым. Попробуйте, испытайте. И ничего, ничего я не хочу. Схожу с ума. И чтобы действительно уж не спятить, пишу в тетрадях это свое житие. ЖИТИЕ! Эта проклятая чертовка совсем обворожила, закружила меня, и вот ловлю себя на том, что все время ее жду. Теперь я уже не в силах выключить телефон и, кажется, не в силах ее не искать. Только удерживаю себя. Пока держу. Я знаю, что из магазина она перебралась теперь в еще одну строительную контору и там тоже одни сплошные мужики, приставучие и подлые, грязные и похотливые, как кобеля. И очень скоро я понял, что она изменяет мне, что-то такое складно врет, но обмануть меня невозможно, и следить за ней мне почему-то не хочется. Она спокойно обманывает меня, а я обманываю себя. И мы уже реже встречаемся. Не видимся и по месяцу. Я не звоню, и не звонит она. Так однажды мы не виделись всю зиму. И всю зиму я писал эту не дающуюся мне картину с Афродитой. Она не творилась. Мрачно и медленно я мазал что-то на холстах, бросал в угол испорченные картоны, счищал краски и начинал снова, опять счищал и в конце концов бросал кисти, садился писать «Житие».
Читать дальше