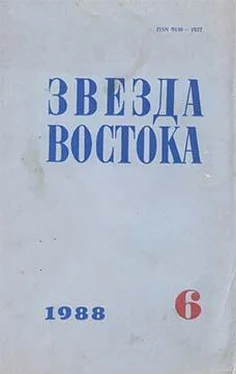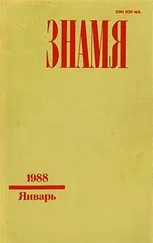В последнем письме он уже ни в чем не упрекал Лизу, ни на что не жаловался и ни в чем не каялся. Мелкие, любопытные подробности своего несвободного существования, некоторые черточки и мысли окружающих, показавшиеся ему интересными, — вот чем наполнил Семен свою последнюю исповедь. И лишь в самом конце, не удержавшись (желание это оказалось сильнее его самого), он мельком проговорился, что часто видит Лизу во сне и мечтает хоть издали посмотреть на нее наяву.
18.
Тут-то и ждала Семена самая сильная отповедь. Видно, не удержав пера, Лиза с сердцем отвечала на его робкое мечтание.
Семен жадно впился глазами в размашистые ряды неровных строчек. Письмо было длинным. Сквозь внешнюю суховатость и нарочитое безразличие то тут, то там пробивался страстный, живой огонь; Углов физически ощущал, как Лиза сдерживала себя, не желая сказать больше того, что было сказано; как трудно ей было не выплеснуть на бумагу, в самое лицо его, всю горькую и правдивую силу своей страшной и незабываемой беды.
Видно, все же Лиза со вниманием прочитала все его письма, хотя и не ответила на них, и сейчас обмолвилась как бы мельком, что прочла только последнее, все же предыдущие бросила в мусорное ведро, не распечатав. Но по некоторым мелким подробностям Углов почти с уверенностью угадывал, что прочтено было не только последнее его письмо, а и два предыдущих.
Лиза писала, что удивляется не столько тому, что именно он пишет, сколько тому, что, разрушив собственными руками все, что их когда-то связывало, он еще надеется восстановить развалины. Ведь Семен ей теперь, мало сказать, что чужой, — злейшего врага своего она бы не ненавидела с такой силой, как бывшего мужа. Потому что никакой самый страшный враг не смог причинить ей такого непоправимого горя, какое принес Углов. Восстановить между ними ничего нельзя так же, как нельзя вновь вернуть на белый свет Аленку. Угловские же предыдущие упреки в том, что она якобы подписала со зла какие-то бумаги, которые привели его за решетку, кажутся ей глупыми. Ведь если в Семене еще сохранилось какое-то подобие разума, то он не может не понимать, в каком состоянии она была сразу после смерти дочки; в те страшные дни она не задумываясь подписала бы и собственный смертный приговор; да и могла ли она вообще в такой разрухе души понимать, что подписывает и зачем?
Впрочем, Лиза очень сомневается, что ее жалкая подпись могла что-то изменить в дальнейшем течении угловской жизни; ведь и слепому было видно, куда катится Семен; и катится не по чьей-то чужой вине или подписи, а своим собственным неудержимым ходом и желанием. Если же Лизина подпись как-то помогла этому естественному ходу событий, так неужели ей следует испытывать какое-то сомнительное раскаяние? Напротив, она от души рада его теперешнему положению, и если уж кому-то стоит раскаиваться в своих поступках, то Углову незачем для этого далеко ходить — достаточно будет просто заглянуть в зеркало!
Кстати, она не очень понимает, почему он именует лечебное учреждение тюрьмой, — разве что там ему наконец перестали позволять пьянствовать? Видимо, для Семена это и есть основной критерий различия между местами лишения свободы и организациями здравоохранения? В таком случае, по истечении срока лечения его ждет большое разочарование: с пьянством начали всерьез бороться повсюду, и как бы теперь весь мир не показался Семену тюрьмой!
Лиза, конечно, сожалеет, но ничем не только не может ему в этом помочь, но даже не желает нисколько и сочувствовать, по ее горячему убеждению, таких людей, как Углов, следует не лечить, зря переводя на никчемную затею крайне нужные государственные деньги, публично расстреливать! И большие средства были бы при этом сбережены, и самим пьяницам, на ее взгляд, было бы, пожалуй, так проще — перестали бы, наконец, и сами мучаться, и людей мучать!
Углов горько усмехнулся: он и сам был теперь не очень далек от Лизиной точки зрения. Слова жены врезались в самую глубину его сердца. Он держал в руках письмо и едва стоял на ногах. Это была тонкая, как паутинка, ниточка, протянувшаяся к нему из страшного далека. Во всем божьем мире не осталось больше никакого другого человека, которому он был хоть чем-то интересен. Есть Углов на белом свете, нет Углова на белом свете — это никого не задевало и не трогало. А уж до того, что лежало внутри его души, и подавно никому не было ни малейшего дела. Лизино письмо явилось для Семена первым несомненным признаком, что он действительно въяве жив, что он человек, а не только номер и фамилия, занесенные чужой рукой в одну из граф длиннейшей ведомости.
Читать дальше