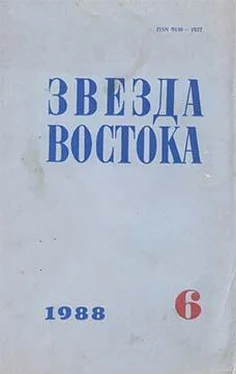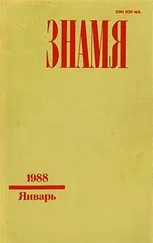«Да вот хотя бы я сам, — выговорил он еле слышным шепотом, — сколько мне сейчас лет? Посмотреть в документы, так вроде и немного, там год за год канает — положено по бумаге тридцать пять, их и есть тридцать пять. А на деле — кто правильно сочтет? Ведь вот за последний свой год я прожил никак не меньше, чем еще одну жизнь. И какую жизнь! Предыдущая с ней и в сравнение не идет. В какой же срок оценить такой вот один год — неужели только в календарный? Ведь если взять, что я здесь перечувствовал, передумал и пережил, так в этот год с лихвой уложилась бы вся моя прошлая жизнь. Шутка сказать — целых две недели! А ведь умри я сейчас, и наверняка кто-нибудь скажет: чего там всего тридцать пять лет; и не жил еще толком, а загнулся».
Углов нахмурился.
«В чем же все-таки тут дело? А может, и Самвел прожил не меньше меня? Как знать? Может, в его коротенькое сорокалетие уложилась не одна, видимая всем и каждому, явная жизнь, а две, три невидимых, тайных, дьявольски долгих жизни?»
И Семен подумал, что если все-таки можно в короткий отрезок лет вместить и две, и три человеческих жизни, что если время длинится и растягивается, как резина, то оно наверняка может и сжиматься; и легко может статься, что, отмотав в этой жизни много десятилетий, можно при этом ухитриться не прожить и одной нормальной человеческой жизни. У Семена захватило дух. Мысль, если примерить ее на себя, была крайне неприятна, а он совершенно невольно именно это тут же и сделал, и как только он примерил к своему прошлому эту странную, неведомо откуда взявшуюся мысль, как ему сразу стало чертовски неуютно. И хотя Углов горячился и убеждал себя, что последний его год стоит целой жизни, но куда было деть ясное до ужаса ощущение полной никчемности и бессмысленности его прежнего существования? И куда было убежать от жуткого понимания того факта, что из трех с половиной десятилетий его жизни жизнью человеческой можно было с некоторой натяжкой назвать только этот последний коротенький отрезок?! Семен взвыл бы сейчас, как затравленный волк, если б умел выть, но он был, к несчастью, человеком, и только слабый мучительный стон вырвался наружу сквозь его мертво стиснутые зубы.
Страшным усилием воли Углов вернул свои мысли к Самвелу. Вот жил тот, работал, гулял, пил водку, лечился от нее, лечился не раз, и не два, и вот теперь ушел он туда, откуда еще никто не возвращался. Что же осталось от него на трудной земле, по которой Самвел бродил несколько десятилетий? Немыслимо было поверить, что не осталось и малейшего следа. Сегодня он умер, и о нем еще говорят люди, поневоле скученные затейливой судьбой в маленькое, огороженное от огромного мира пространство. Но быстро, чудовищно быстро пройдет и один день, и другой, и третий… И след Самвелов истает, и кто тогда вспомнит о нем, и кто скажет в неслыханную, чернильную пустоту, что вот жил на свете добрый человек, плотник Самвел-армянин, и что с уходом его ушло и что-то важное в мире!
«Так что же? — с непонятным ожесточением подумал Углов. — Выходит, что мир, человечество ничего не потеряли оттого, что исчез сегодня плотник Самвел? Тогда зачем он понадобился этой самой жизни? Зачем приходил в мир, зачем так трудно жил и больно шел между людьми, раз тем же людям все равно, есть он на свете или нет?»
И тут ему вдруг слабо подумалось, что, может быть, в них самих (в нем, в Самвеле, в братанах) есть что-то такое, что не дает им стать нужными этой горькой и манящей жизни. Семен смутно ощутил, что нащупал сейчас нечто очень важное для себя, но никак не мог уловить, что именно. Словно хорошо известное ему раньше, но нечаянно забытое слово усилием воспоминания сверлило его разгоряченный мозг. «Подожди, подожди, — говорил он кому-то, — я вспомню, я сейчас вспомню, я пойму…» Но темное ощущение неведомого прозрения, приблизившееся было к нему, все отдалялось и отдалялось, пока он с тяжелым разочарованием не понял, что загадка жизни осталась все так же недоступной его пониманию.
Семен встал и угрюмо побрел в темный барак.
11.
Через месяц после памятного разговора с Костенко произошел случай, ставший поворотным в дальнейшей Семеновой судьбе. В этот вечер он задержался в прорабской дольше обычного. Конец месяца — наряды.
На столе перед Угловым раскинулась груда бумаг. Перо в его руке едва ли не дымилось от напряжения. Лоб прорезали глубокие морщины. На воле-то распределять деньги между рабочими было не мед с молоком; о зоне и говорить нечего — семи пядей во лбу не всегда хватало.
Читать дальше