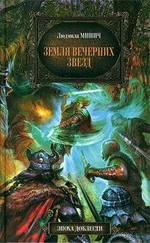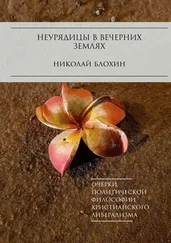Историк смотрит на воду, на цветы лотоса, склоняющиеся под ветерком.
— В чем это вы стараетесь меня убедить?
Он напоминает мне некоторых адвокатов, не способных говорить о сути дела.
— По-моему, — произносит он, ковыряя шелушащееся дерево перил, — Аритомо-сэнсэй играл в войне небольшую, но важную роль.
Резкий порыв нарушает созвучие ветра, зависшее под карнизом. Звук его резок и дисгармоничен. Рейки, замечаю я, злокачественно поражены ржавчиной.
— Он защитил множество людей от Кэмпэйтая, — говорю. — Он многих мужчин и мальчишек спас от угона на строительство бирманской железной дороги.
— Я убежден, что он работал на императора, когда имперская армия напала на Малайю.
— Но вы только что сказали мне, что император уволил его.
Понимаю, что звучит это, должно быть, так, будто я снова в зале суда и цепляюсь за несоответствия в показаниях свидетеля.
— Мне часто приходило в голову: не было ли это для него шансом искупить провинность, восстановить пошатнувшуюся репутацию? И это дало ему веский повод покинуть Японию.
— И заняться — чем? По-вашему, он был шпионом? — Я бросаю на историка скептический взгляд. — Готова признать, что такая мысль приходила мне в голову вскоре после того, как Аритомо пропал. Только я отбросила ее.
— Люди полагают, что он пропал всего лишь раз в жизни, но я думаю, что это не так, — говорит Тацуджи. — Он сделал это дважды. В первый раз — когда уехал из Японии до того, как началась война на Тихом океане. Никто не знал, куда он направился и чем с тех пор занимался, пока он не объявился в этих горах.
— Послушайте, сегодня всем известно, что задолго до войны повсюду в Малайе сидели японские шпионы, работавшие портными, фотографами, владевшие небольшими предприятиями. Только ведь они-то жили — в городах , Тацуджи, в местах, имевших хоть какую-то стратегическую значимость для вашей армии. Аритомо жил тут. Тут! — я со стуком впиваюсь костяшками пальцев в деревянные перила. — Он спрятался ото всех в своем саду.
— И коли уж на то пошло, — добавляю я, — если он по-прежнему работал на Японию, то почему оставался в Малайе еще долго-долго после конца войны? Почему он так и не вернулся на родину?
Тацуджи молчит, его глубокомысленный взгляд говорит мне, что он с разных сторон изучает мои слова.
— Тацуджи, что вы делали на войне?
Мгновенное замешательство.
— Я был в Юго-Восточной Азии.
— Где в Юго-Восточной Азии?
Он переводит взгляд на цаплю, осторожно выбирающую себе путь среди лап лотоса.
— В Малайе.
— В армии? — Голос мой ужесточается. — Или в Кэмпэйтае?
— Я служил в летной части имперского военно-морского флота. Я был летчиком. — Он слегка отстраняется от меня, и я замечаю, как нелегко ему дается самообладание. — Когда начались воздушные налеты на Токио, мой отец перебрался на свою загородную виллу. Я еще учился в академии, готовившей летчиков. Я был единственным ребенком. Мать умерла, когда я был еще мальчишкой. Я приезжал к отцу всякий раз, когда удавалось получить отпуск на несколько дней.
Он закрывает глаза и открывает их мгновение спустя.
— В нескольких милях от нашей виллы располагался трудовой лагерь. Военнопленных свозили со всей Юго-Восточной Азии работать на угольных шахтах за городом. Всякий раз, когда кто-то совершал побег из лагеря, мужчины в деревне создавали поисковые отряды. Однажды на выходные, когда я гостил у отца, я увидел, как они шли — с охотничьими собаками, с палками и всякими сельхозорудиями. Они делали ставки: кто первым отыщет сбежавших заключенных. «Охота на кроликов» — так они это называли. Когда беглецов ловили, их приводили на площадь возле деревенской ратуши и били.
Он смолкает, потом добавляет:
— Однажды я видел, как кучка подростков забила пленника палками до смерти.
Долгое время оба мы храним молчание. Он поворачивается ко мне и отвешивает мне такой глубокий поклон, что, кажется, — вот-вот на ногах не устоит, упадет. Снова выпрямившись, говорит:
— Я прошу прощения за то, что мы с вами сделали. Я глубоко скорблю.
— Ваше извинение лишено смысла, — говорю я, отступая от него на шаг. — Для меня оно не имеет никакой цены.
У него плечи будто сводит. Я жду, что он уйдет от павильона. Но он — вот он: стоит, не двигаясь.
— Мы и понятия не имели, что натворила моя страна. Мы не знали ни о массовых зверствах, ни о лагерях смерти, ни о медицинских экспериментах, проводившихся на живых узниках, ни о женщинах, принуждаемых прислуживать в армейских борделях. Вернувшись домой с войны, я отыскал все, что смог, о том, что мы сделали. Именно тогда у меня появился интерес к нашим преступлениям: хотел заполнить молчание, душившее каждую семью моего поколения.
Читать дальше