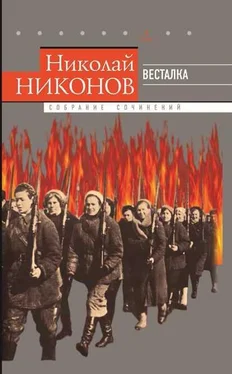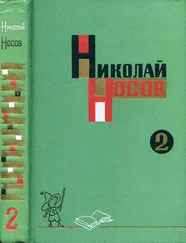Однажды, когда я, отправив нескольких раненых и больных дизентерией в санроту, возвращалась на передовую (ехала в пароконном тарантасе с ездовым и санитаром), у деревни со смешным названием Самоду-ровка увидела дивизион зенитных пушек. Солдаты окапывали их, готовили позицию. Пушки были какие-то совсем непохожие на знакомые мне маленькие и сложные тридцатисемимиллиметровки. У этих пушек были устрашающе длинные дула, длинные утолщения пламегасителей, дульных тормозов; глядели они вызывающе грозно, некоторые стояли, прикрытые большими броневыми щитами.
— Восьмидесятипятимиллиметровки, — покуривая махру, сказал ездовой. — Под Москвой у нас в обороне такие стояли сплошь… Серьезные пушечки..
Солдаты у крайнего орудия перестали копать, бросили ломы и лопаты, глядели в нашу сторону. Кто-то даже в бинокль.
— Сестренка-а! К на-ам! — долетело. — Сюда! Эй, вы, вдвоем на одну! Растянете!
Я уж привыкла к таком юмору. Но тут вдруг от группы артиллеристов отделился один, тот, что смотрел в бинокль, и побежал к подводе.
— Ли-да-а! Одинцо-ва-а! — услышала я крик и вздрогнула, вглядываясь, толкнула ездового.
— Чо ты, девка? — недоуменно потянул он вожжи. Но я уже спрыгнула с подводы. Я поняла, кто бежит сюда. Это был он, мой лейтенант Стрельцов. Алеша… Как тайно звала я его про себя еще и тогда, на батарее.
— Вот ты где?! Жива? Цела?? — запыхавшись, кричал он, подбегая, хватая меня за плечи, оглядывая с такой жадностью, что я потупилась, не могла смотреть. — Живая… Здоровая… Лида… Лидка?
— Жива..
— А я тебя… искал, искал… Уехала тогда… и ни адреса… ни следа… Вот… дураки… И я — тоже… Хорош… Ну, как ты? — улыбался, не отрывая глаз.
— Воюю… Раненых отвозила..
— Где ты?
— А вот, по соседству. Километра два отсюда… Может, три… — махнула туда.
Отвечала, а сама пылала, боялась на него смотреть, боялась поверить. Ведь не надеялась встретить. Где там! Где встретишься на войне, безотлучно при батальоне в этой каше постоянно меняющихся, новых незнакомых людей, когда части тасовали, как карты, чья-то властная воля то снимала нас с подготовленной, обустроенной позиции, то отводила во вторую линию, то передавала другому соединению. Говорили, что Сталин и командующих фронтами меняет чуть не каждый месяц. Да мы и не знали этих командующих. Много лет спустя уже я узнала, что нами тогда командовал Рокоссовский.
— Ой, как хорошо, что мы встретились! Что я тебя нашел! — говорил Стрельцов. — Теперь уж не потеряю… Шалишь, не уйдешь, Одинцова. Тогда убежала от меня, как лиса.
Я молчала, и, смущенный этим, он как-то притих, разглядывая меня, спросил виновато:
— Ты за это время, случаем, замуж не вышла? Не определилась… в пэпэже [3] Это грубое фронтовое словцо было известно всем — «полевая походная жена» (примеч. авт.).
?
И я поняла: если бы вдруг сказала «да», причинила бы ему очень сильную боль.
— Не вышла, — по детски как-то ответила я. И ответной радостной дрожью дрогнула все еще державшая меня рука.
— Слушай, скажи… Как тебя найти? Где? Я бы вечером прибежал… Можно? — он ждал ответа с такой робкой надеждой, что у меня забилось, затрепыхалось, затроило от радости сердце. Неужели счастье улыбнется хоть сколько-нибудь? Нашелся мой Стрельцов. Ведь это же — чудо. Вот оно — чудо. Ждала, мечтала, ни на что не надеялась. Плакала про себя… А вот он — стоит передо мной и ждет моего слова.
— Приходи! — сказала я. — Отсюда, наверное, если бегом, минут двадцать, вон до тех бугров, видишь?
— Вижу, — сказал он. — Только… Как вырвусь — не знаю… Приказ… Не отходить от пушек… Но я… Я все равно… Часов в десять..
— Нет, — сказала я, — тогда сама прибегу. Ну вот сюда, вон к траншее.
— Лида! Милая… Господи! А не?..
Но я уже махнула ему и побежала догонять подводу.
— Ишь, как он на тебя спикировал, — сказал, прижмуриваясь, старик ездовой. — Знакомый, чай? Али со школы?
— Служили вместе, — ответила я, запрыгивая на грядушку тарантаса, обливаясь потом, вытирала лицо рукавом гимнастерки. — Не могли подождать… Фу… Запыхалась… Как… Догоняла.
— Дак кто тебя знает, девка. Может, у тебя дело какое, сердечное. А пробежалась — ничо. Молодая…
Никогда, наверное, не ждала я так вечера, как в тот знойный день четвертого июля. Немцы в этот день затихли, точно их и не было. Не слышалось ни стрельбы, ни криков, даже самолеты-разведчики — «рамы» — не кружили, как кружили они постоянно вблизи передовой. Весь июнь они бросали листовки: «Русские солдаты! Сдавайтесь к нам в плен! Жиды и коммунисты ведут вас к гибели. Штык в землю!» На иных листовках Сталин с огромным носом. Листовки мы рвали, жгли, сдавали ротному или старшине, и он отправлял их куда-то в особотдел.
Читать дальше