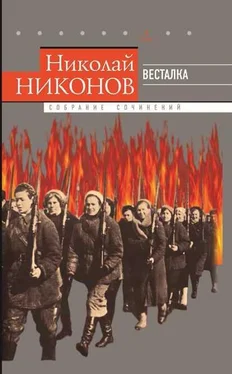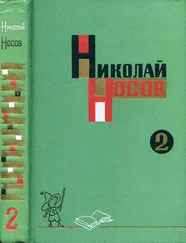— Признала! — улыбнулась регистраторша. Маргарита Федоровна отняла ладони от висков. Всю жизнь работая в домах с младенцами, главная плохо переносила их крик. Я не напоминала Маргарите Федоровне, что знаю ее еще по родильному. Меня она, конечно, не помнила. Прошло столько лет. Да и зачем напоминать женщине, от которой в лучшем случае дождешься лишь удивленного взгляда.
— По виду девочка здорова, — говорила она. — Конечно, проверим..
Милиционерка с каменным равнодушием подписала бланк. Приемка закончена. Можно уезжать.
— Не знаете ли вы Лобаеву Зинаиду, кажется, Алексеевну? — спросила я вдруг у этой кентаврши, складывающей бумаги в портфель.
— Кто такая? — вопрос, не глядя на меня.
— Служила у вас, в дорожном.
— У нас много служило. Не знаю, — и, бросив казенное «до свиданья..», вышла.
Едва девочку взяли от меня в приемник на санобработку, она снова подняла такой визг, что ворчали и бывалые детдомовские няньки:
— Паровозница!.. До чего громка! Такой крикуши поискать!
Весь день на этаже слышался крик и плач новенькой. «Изойдет криком… Заболеет, — думала я. — Может быть, пойти, взять на руки, поносить. Успокоится..»
Пришла в палату, где, встревоженные, возбужденные криком, голосили еще несколько младенцев, и девочка, давясь рыданием, тотчас потянулась ко мне.
И опять на руках, была тепленькая живая тяжесть, замолкшая тотчас, как стала гладить по спинке. Девочка обхватила меня за шею, прижималась щекой. Вымытые, в желтизну белые, овсяные волосики щекотали мою щеку, когда, вздрогнув, слегка отстраняясь, она глядела кругленькими, облачного тона глазками. Упрямое любопытство, полуудивление пополам с сомнением. И все это же недоверчивое: ма-а-а..
Поносила девочку по коридору, вернулась в палату, передала няне, и та попыталась ее уложить. Не тут-то было, девочка снова заголосила..
— Неуспокойка это… — ворчала нянька. — Бывают, средка… Бывали. Так и заревется, бедняга. И ничем! Был случай. Без матери эта не может.
К вечеру новенькой действительно стало худо. Уже хрипела, билась в судорогах, захлебывалась, — и главврач объявила, что случай из непонятных. Не было в практике. Надо срочно в больницу, в стационар… Маргарита Федоровна уже взялась звонить.
Я схватила ребенка на руки. Голова девочки клонилась. Но она замолчала. Дрожала. Дышала тяжело.
— Если… я возьму ее? — спросила я вдруг молчаливых сестер и Маргариту Федоровну.
— То есть… Как?
— Возьму на воспитание. Как дочь.
— Ну что вы, милая? Шутите?
— Всех не возьмешь..
— Завтра опять кого привезут.
— Я всех и не смогу. А эту, может быть, выхожу. Вы видите, у меня она не плачет.
— Ну-у, если вы серьезно… Это, конечно, благородно!.. Но-о..
— Вы возражаете?
— Нет… Но-о… — она положила трубку. — Не получится ли… Впрочем… — Маргарита Федоровна умела говорить странными полуфразами, из которых можно было все понять, кроме стопроцентного отрицания или утверждения. — Ну-у. Это… Тогда… Пожалуй… Если товарищи… Алексей Иваныч..
Девочка снова обняла меня за шею, молчала, глубоко всхлипывала, успокаивалась.
— А она ведь будто и похожа на тебя, Лида! — простецки сказала-объявила нянька.
— Или вы похожи на ее мать..
— Ведь вот молчит, а чо делала? Орала — страсть! Прижалася вот и молчит. Хитра девка! Сразу мать нашла.
— Смотрите… Не поторопитесь… Обратно… Но-о..
— Здесь дети многие с дурной наследственностью.
— У девочки все в норме. И кровь, и… Но-о..
— Она похожа на вас, Лидия Петровна!
Так у меня появилась дочка. Вечером она поела на моих руках. А потом уснула и всю ночь спокойно спала рядом на раскладушке. Рано утром я услышала ясное, тягучее: «Ма-а-а».
— Как зовут тебя?
Недоумение, пристальный взгляд.
— Ты-ы… Забы-а..
— Забыла, дочка. Как?
— О-ня.
— Соня?
Нечто вроде улыбки с отрицающим сомнением.
— О-о-ня!
— Аня?
— О-оня.
Странное имя, но я не рискнула больше спрашивать.
— Почему ты так плакала?
— Ты ушла-а. Ты — ма-а?
— Мама. Я твоя ма-ма.
И еще сомнение, сомнение, сомнение… Покорно опущенная голова.
— Мма-а.
— А ты — Оня! — решила подыграть.
— Оня! — утвердительно повторила девочка.
Не искала другую работу. Не думала теперь о себе. С утра до ночи была занята заботой о приемной дочери, как-никак приходилось совмещать и свои обязанности сестры, и уход за полуторагодовалой девочкой. Первые дни я старалась держать ее при себе, но Оня — так и звала ее, не разобрав все-таки настоящего имени, может быть, ее звали Тоней или Анисьей, но в документах, позднее оформленных на меня, она и была названа Антониной — была очень впечатлительна, в интернате никак не привыкала, плакала, просилась домой, и волей-неволей я уводила ее обратно в свою комнату, где Оня — она отзывалась только на это странное имя — оставалась одна, играла в немудрые детдомовские игрушки, сидела на окне и ждала меня. Комната была отделена от интернатного коридора нетолстой перегородкой, и время от времени, освободившись от дел, я подходила к стене и звала девочку: «О-ня-а!» — «М-а-а!» — тотчас слышалось в ответ. «Я тут! С тобой! Скоро при-ду-у!» — «Ма-ам!» Этого было достаточно, чтобы девочка чувствовала себя хорошо, не плакала. Конечно, в свободные минуты я бежала присмотреть за ней, накормить, уложить спать. Вечером мы гуляли, ездили в город, в магазины, по воскресеньям на речку и в лес. Здесь было недалеко. Жизнь снова обретала для меня привычный смысл. Я лишь дивилась тому, как скоро эта приемная дочка стала считать меня матерью. Объяснение было — либо мать редко навещала ее, либо я действительно напоминала ее настоящую. Ведь я убедилась, что Оня близка, похожа на меня, почувствовала это сразу, с тех пор как зареванная, кричащая девочка приникла ко мне. Беловолосая, широколицая была и сама в своем раннем детстве, помню по старым карточкам, которых не сохранилось ни одной. Может быть, я просто хотела, чтоб девочка была похожа? Но вот уже много времени спустя, когда Оне исполнилось пять лет, мы ехали с ней в трамвае, и какой-то мужчина, не знаю с чего, но, вероятно, из желания понравиться, сказал вдруг: «Да это надо же! Какое сходство! Вот уж сразу скажешь — мамина дочка!» А мамина дочка оказалась существом совсем не плаксивым, не крикливым, скорей наоборот — улыбчиво-радостным, улыбчиво-чутким. Темно-серые глаза обладали способностью часто удивляться, осмысленно выражать ее крохотный и все-таки вполне самостоятельный мир. Она словно постоянно думала над чем-то. Живая мысль отражалась на детском личике, и мысли эти умиляли меня, заставляли тянуться к ней, хоть погладить, потискать. К этой нежданной дочери, Онечке, я чувствовала вполне то же, что и к сыну. Вот не рожденная, а дочь! Просто удивительно, ибо временами мне казалось — это я родила ее, каким-то чудом избежав беременности, родовых мук и всего того, что было связано с рождением сына. Оня теперь заменяла мне его, давала возможность чувствовать себя занятой, нужной, обеспеченной главной житейской целью. Я не знаю, не понимаю людей, живущих без детей — что это? Болезнь? Лень? Душевная скупость, как у моей престарелой двоюродной тетки, которая, боясь детей, прожила век, зачерствелая в скопидомских инстинктах. Вот так же почти встретил меня и мой дядюшка спустя почти двадцать лет и опять с маленьким ребенком, правда, уже не на руках, а за ручку.
Читать дальше