В эти минуты мне было хорошо, я забывала о Пьетро и Деде, о своих гнетущих обязательствах перед ними. Я боялась одного: что скоро гость уйдет и я снова окунусь в домашнюю рутину, и снова покатятся похожие один на другой дни, заполненные бездельем и взаимным раздражением под маской любезности. Из-за этого я позволяла себе лишнее: говорила слишком громко и возбужденно, закидывала ногу на ногу, чтобы повыше задралась юбка, вроде бы машинально расстегивала верхнюю пуговицу на блузке. Я намеренно сокращала дистанцию между собой и чужим для меня человеком, наивно веря, что, стоит мне его коснуться, мимолетное ощущение счастья останется со мной, в моем теле, и, когда он уйдет — один, с женой или подругой, — мучительная тоска и ощущение внутренней пустоты и собственной никчемности хотя бы на время оставят меня.
На самом деле, лежа потом в постели, пока Пьетро работал в соседней комнате, я сама себя презирала и понимала, что вела себя как последняя дура. Я пыталась бороться с собой, но это ни к чему не приводило. Тем более что мужчины, уверенные, что произвели на меня впечатление, часто звонили мне на следующий день и предлагали — под тем или иным предлогом — встретиться. Я соглашалась. Но, уже явившись на свидание, поддавалась панике. Один тот факт, что мужчина клюнул на меня, хотя был на тридцать лет старше или женат, сводил на нет весь его авторитет и он уже не годился на роль спасителя, а мои с ним заигрывания, приносившие мне столько удовольствия, теперь казались несусветной глупостью и подлостью. «Как я могла так поступить? — в растерянности спрашивала я себя. — Что со мной творится?» И старалась окружить Деде и Пьетро удвоенной заботой.
Но к нам снова приходили гости, и все повторялось. Я проводила дни в пустых мечтаниях, слушала, включив погромче, музыку — наверстывала упущенное в юности, — ничего не читала, ничего не писала. Но главное, меня все больше грызли сожаления о том, что из-за своей проклятой самодисциплины я так долго лишала себя дерзких удовольствий, которым предавались и продолжали предаваться женщины моего возраста и моего круга. Так, Мариароза, приезжая во Флоренцию читать лекции или участвовать в политических акциях, каждый раз заявлялась к нам с разными мужчинами, иногда не одна, а с подругами; она баловалась наркотиками и предлагала нам. Пьетро мрачнел и закрывался у себя в кабинете, но меня все это завораживало; курить траву или пробовать кислоту я отказывалась — боялась, что мне станет плохо, — но болтала с Мариарозой и ее друзьями до поздней ночи.
Мы говорили обо всем подряд, часто спорили на повышенных тонах, и у меня складывалось впечатление, что прекрасный литературный язык, на овладение которым я потратила столько времени и сил, больше никому не нужен — слишком он был прилизанный, слишком чистенький. Я видела, как изменилась речь Мариарозы. Она сожгла все мосты между собой и своим воспитанием. Теперь сестра Пьетро выражалась хуже нас с Лилой, когда мы были девчонками. Ни одно существительное не обходилось у нее без определения «долбаный»: «Куда я дела эту долбаную зажигалку и где эти долбаные сигареты?» Лила говорила так всю жизнь, а мне что было делать? Стать прежней, вернуться на исходную точку? Зачем же тогда я столько лет себя мучила?
Я наблюдала за золовкой. Мне нравилось, что она демонстративно занимает мою сторону, а не сторону своего брата. Мне нравились мужчины, которых она приводила в наш дом. Однажды вечером посреди жаркого спора она бросила молодому парню, с которым пришла: «Ну, хватит, пошли трахаться!» Трахаться. У Пьетро для обозначения понятий, связанных с сексом, существовал собственный словарь мальчика из хорошей семьи, и я освоила его, заменяя приличными выражениями ту похабщину, к которой привыкла с детства. Неужели теперь, чтобы не отстать от меняющегося мира, мне следовало к ним вернуться и говорить: «Я хочу потрахаться, отымей меня так-то и так-то»? С моим мужем это было немыслимо. Зато те немногие мужчины, с которыми я общалась, люди высокой культуры, охотно играли в показную простоту, проводили время с подчеркнуто вульгарными девицами и с наслаждением обращались с приличными женщинами как с потаскухами. Поначалу они вели себя сдержанно, не выходя за рамки, но им явно не терпелось включиться в игру, по правилам которой можно вслух говорить то, о чем принято молчать, и постоянно повышать градус откровенности. Женская стыдливость воспринималась отныне как признак ограниченности и ханжества; в свободной женщине больше всего ценились искренность и непосредственность. Я тоже старалась освоиться в этой игре. Но чем лучше это у меня получалось, тем быстрее крепло ощущение, что я впадаю в зависимость от своих собеседников. Пару раз мне даже показалось, что я влюбилась.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Элена Ферранте - История о пропавшем ребенке [litres]](/books/32091/elena-ferrante-istoriya-o-propavshem-rebenke-litres-thumb.webp)

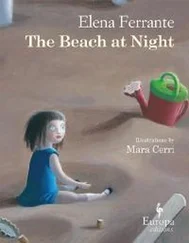



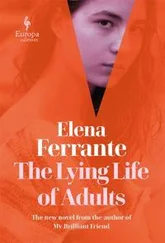
![Элена Ферранте - Дни одиночества [litres]](/books/404671/elena-ferrante-dni-odinochestva-litres-thumb.webp)



