В последующие дни стычки подобного рода вспыхивали все чаще. Я была с ним холодна, придиралась к нему по пустякам, одновременно презирая себя. Временами меня охватывал гнев: чего он от меня хочет? Что я могу поделать? Я любила Нино, всю жизнь любила: разве я могла выбросить его из сердца, из головы, из груди теперь, когда он тоже меня желал? С самого детства я выстроила в себе идеальный механизм самоцензуры. Я никогда не давала воли своим истинным влечениям и всегда находила способ пресечь безумные поползновения, перенаправив их в нужное русло. Но теперь все, хватит, говорила я себе, пропади все пропадом, включая меня самое.
И все же я колебалась. Несколько дней не звонила Нино, о чем предусмотрительно предупредила его еще во Флоренции. А потом вдруг начала звонить по три-четыре раза в день, плюнув на осторожность. Я дошла до того, что оставляла Деде в паре шагов от телефонной будки. Я разговаривала с ним из этой раскаленной на солнце клетки и иногда, вся мокрая от пота, не в силах терпеть пристальный взгляд этой малолетней шпионки, моей дочери, распахивала настежь дверь и кричала: «Что ты стоишь столбом? Я же велела тебе смотреть за сестрой!» Теперь мои мысли занимала главным образом конференция в Монпелье. Нино все настойчивее дергал меня, повторяя, что я должна доказать ему, что действительно им дорожу. От бурных ссор мы переходили к страстным признаниям в любви, от взаимных упреков — вылетавших мне в кругленькие суммы, звонила-то я по межгороду, — к самым смелым откровениям, словно надеясь, что они помогут нам утолить взаимное желание. Однажды, устав от нытья Деде и Эльзы под дверью будки («Мам, выходи скорее, нам скучно»), я сказала ему:
— У меня есть только один способ поехать с тобой в Монпелье.
— Какой?
— Признаться во всем Пьетро.
Долгое молчание.
— Ты действительно готова на это?
— Да, но при одном условии: ты расскажешь все Элеоноре.
Снова долгое молчание.
— Ты хочешь, чтобы я причинил боль Элеоноре и своему сыну? — тихо спросил Нино.
— Да. Я ведь собираюсь сделать то же самое с Пьетро и дочерьми. Решиться и значит причинить боль.
— Альбертино еще совсем маленький.
— Эльза тоже. А уж Деде просто этого не перенесет.
— Давай сделаем это после Монпелье?
— Нино, не играй со мной.
— Я не играю.
— А раз не играешь, будь последовательным: ты говоришь со своей женой, я говорю со своим мужем. Немедленно. Сегодня же вечером.
— Дай мне немного времени, это нелегко.
— А мне легко?
Он начал изворачиваться. Сказал, что Элеонора — женщина очень ранимая. Что вся ее жизнь сосредоточена вокруг него и ребенка. Что в юности она два раза пыталась покончить с собой. На этом он не остановился: я поняла, что вызвала его на полную откровенность. Слово за слово, со свойственной ему предусмотрительностью, он признался, что развод не только причинит боль его жене и сыну, но и лишит его множества удобств («в Неаполе можно сносно жить, только если ты богат») и полезных связей, благодаря которым он мог заниматься в университете тем, что ему нравилось. Затем, поддавшись порыву быть со мной до конца честным, он сказал: «Ты ведь в курсе, как меня уважает твой свекор. Если все узнают о нашей связи, это будет означать полный разрыв с Айрота». Почему-то именно последнее его замечание ранило меня больнее всего.
— Хорошо, — сказала я. — Закончим на этом.
— Подожди.
— Я и так слишком долго ждала. Надо было раньше решиться.
— Что ты собираешься делать?
— Признать, что мой брак больше не имеет смысла, и пойти своей дорогой.
— Ты уверена?
— Да.
— Ты приедешь ко мне в Монпелье?
— Я сказала: пойти своей дорогой, а не твоей. Между нами все кончено.
Я вышла из будки в слезах. «Мама, ты ушиблась?» — спросила Эльза. «Нет, со мной все хорошо, это бабушке нездоровится». Слезы сами лились у меня из глаз, пугая Эльзу и Деде.
Последние дни отпуска я только и делала, что плакала. Я говорила, что плохо себя чувствую, что слишком жарко, что у меня болит голова, и отправляла Пьетро с дочками на море, а сама ложилась в постель и рыдала в подушку. Я ненавидела себя за эту слабость: так я не ревела даже в детстве. Еще девчонками мы с Лилой запрещали себе плакать, а если нам и случалось пустить слезу, то в исключительных обстоятельствах и никогда надолго: нам было слишком стыдно, и мы брали себя в руки. А тут как будто у меня в голове забил родник, как в «Неистовом Роланде» Ариосто: даже когда к приходу Пьетро, Деде и Эльзы я заставляла себя успокоиться и бежала умываться, слезы не иссякали, в любую минуту готовые хлынуть из глаз по уже проложенному руслу. На самом деле я не была нужна Нино. Он много притворялся и мало любил. Ему просто хотелось трахнуть меня — да, трахнуть, как он трахал бессчетное число других женщин; но остаться со мной навсегда, порвав с женой, в его планы не входило. Может, он все еще был влюблен в Лилу. Может, он всю жизнь любил одну ее, как многие из тех, кто ее знал. Поэтому он всю жизнь проживет с Элеонорой. Любовь к Лиле служила гарантией того, что ни одна женщина, как бы неистово он ее ни желал, не сможет разрушить их хрупкий союз, а уж я — в последнюю очередь. Вот как обстояли дела. Иногда я прямо посреди обеда или ужина вставала из-за стола, запиралась в ванной и давала волю слезам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Элена Ферранте - История о пропавшем ребенке [litres]](/books/32091/elena-ferrante-istoriya-o-propavshem-rebenke-litres-thumb.webp)

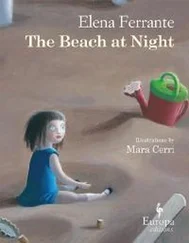



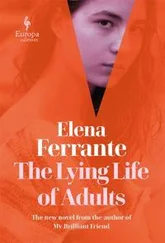
![Элена Ферранте - Дни одиночества [litres]](/books/404671/elena-ferrante-dni-odinochestva-litres-thumb.webp)



