Итак, реальность допускается на остров фантазии только через таможенный пункт иронии. Порой платить пошлину приходится даже авторскому «я»: особенно много самоиронии в «Феликсе Ормуссоне». Но как Верхарн восклицает в период своего самоистязания: «Будь палачом своим. Восторг тебя терзать не уступай другим», — так и здесь никому другому не дается права на иронию. Когда Хелене осмеливается уязвить Феликса, в нем вскипает «бескрайний гнев к реальности». Ибо никто другой в этом замкнутом мире не смеет иронизировать; правда, Феликс разрешает другим сопереживать своей самоиронии и взирать на нее как на жизнь, инсценированную в театре кривых зеркал.
*
Инсценировка — да, именно это слово точнее всего характеризует плоды фантазии Тугласа. В его новеллах на редкость много лицедейства, режиссуры, декораций, продуманных поз, даже туалетов.
Но это, разумеется, не реалистическое, в современном понимании, представление. В пятом выпуске своей «Критики» Туглас, в частности, рассказывает о двух японских деревянных скульптурах в парижском музее Гиме. Одна из них изображает двух мужчин, которые несут подвешенный к шесту большой колокол: ноги у них неимоверно длинные, что должно символизировать с т у п а н и е: вторая — мужчину, ловящего руками рыбу: руки его вытянуты, что должно означать их п р о с т и р а н и е.
Такое преувеличение, гиперболизация составляет и один из режиссерских принципов Тугласа. Как только дело касается переживаний, тут же начинается утрирование. Эта романтическая черта пронизывает все творчество Тугласа. Уже в «Волке» гости наедаются до того, что скамья прогибается под их тяжестью. Ну а затем наступает черед горячечных сновидений, мрачных предчувствий, рапсодических словоизвержений, приступов страха и безумия, ревности и отчаяния, против которых бессильны и стрелы иронии. Даже в таком, по своему основному тону ироническом произведении, как «Феликс Ормуссон», на каждой странице попадаются гиперболы («тысячи нежнейших запахов», «гигантские костры пастухов в ночном», «зловещая завеса туч» и т. д.), не говоря уже о перенасыщенности красками. Много преувеличений и излишеств также в «Морской деве», однако апогея этот прием достигает, конечно, в «Дне андрогина».
Когда Туглас располагает своих персонажей или развертывает действие под открытым небом, в лучах солнца, то он не упускает случая распушить всю гамму красок или лицезреть самые отдаленные детали — чтобы описать даже колосок полевицы у кромки горизонта или красные лапы журавлей в туманном небе, или увидеть движение топора на топорище с расстояния в несколько сот шагов. Но еще чаще Туглас прибегает в своих новеллах совсем к другому освещению. Монотонный, механический, безжизненный электрический свет никак не гармонирует с миром его фантазии, здесь нужны — с в е ч и. Ведь этот анахронический источник света, живой и близкий, чувствительный к малейшим движениям воздуха, бросает на стену легко колеблемые, таинственные тени, к тому же он имеет богатую историю и традиции.
В «Бездне снов» свечи усугубляют атмосферу кошмарных сновидений и беспросветного настоящего. Фабиан зажигает свечу, чтобы лишить жизни Еву или самого себя. Со свечой в руке блуждает Раннус по подземным ходам, пока она не сгорает дотла и не наступает кромешная тьма. При свете свечи ищет Юргенс под обоями давнишнюю дверь в детскую, читает в старой газете свой некролог. А сколько свечей в «Феликсе Ормуссоне»! Они горят на туалетном столике Марион, при их свете заканчивает автор свою исповедь, трижды по три свечи падает перед объяснением в любви. Празднично горят в саду свечи в бронзовых или мраморных подсвечниках, в доме у Попи и Ухуу свеча стоит в медном подсвечнике, а у турка из «Небесных всадников» — в горлышке бутылки. Свеча горит даже в одной из новелл Артура Вальдеса. В сновидениях все пропорции увеличиваются: Аллану снятся гигантские свечи, подобные факелам, а в грезах Ормуссона во время симпозиума чудаков на столе красуется семисвечие с черными свечами.
Так освещаются подмостки Тугласа.
*
Резкий разрыв писателя со своим прошлым и родиной лежит и в основе дуализма его мировосприятия, умения видеть противоречия и сохранять известную дистанцию по отношению к ним. Первостепенное значение для него имеют, конечно, противоречия между реальностью и мечтой, обрыдлой повседневностью и возвышенным миром духа. В новелле «К своему солнцу» юноша жаждет бури, а девушка — идиллии с печеной картошкой. В «Лепестках черемухи» девочка ждет, чтобы пришла любовь и сбылась сказка, а пастушок — поклевки. Часто жизнь подается как бы в двух плоскостях: на одном полюсе стоит более возвышенная, утонченная, интеллигентная пара вроде Ормуссона с его очередной возлюбленной, Аллан с Ирис или Эло, на другом — Мийли со своим Конрадом, Маали или Мария с Кустой. Однако эти явно примитивные пары рядом с более цивилизованными задуманы не только в качестве какого-то композиционного контрапункта, а иногда и сами воплощают скрытый идеал, руссоистскую мечту о целостности жизни, которая неожиданно может спутать все системы ценностей просвещенных людей. Недаром же Ормуссон заявляет, что ему больше нравятся неошлифованный кубок, неумелые стилисты, а неприметная женщина кажется ему величественней, чем писаная красавица. Этот «эстетизм наоборот» особенно заметен в «Морской деве» со всеми встречающимися там тошнотворными образами, начиная с Каспара Рыжего и кончая Курдисом с его лошадиными зубами, щетиной и птичьим лицом.
Читать дальше

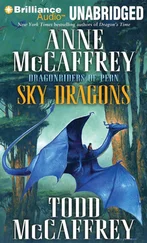




![Валерий Гуминский - Всадники Роха [Author.Today]](/books/409474/valerij-guminskij-vsadniki-roha-author-today-thumb.webp)
![Антон Перунов - Всадники. История Адама Борута [СИ]](/books/424127/anton-perunov-vsadniki-istoriya-adama-boruta-si-thumb.webp)



