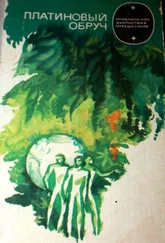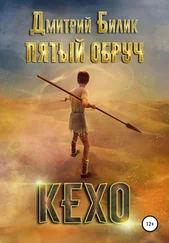Она переправила лесника, всю дорогу оплакивая несчастное возвращение сына. Старик сердито заворчал:
— Говорил я: станут убивать, пока не исчезнет последний человек на земле. Останутся одни волки, лисицы и лани. И тогда воевать придется мне одному! — И он сурово засмеялся: — Хо-хо-хо!
Он зашел в хижину, с минуту молча поглядел на больного. Мокрая собака подошла, понюхала и заворчала. Потом они оба ушли.
Так Марет не дождалась от лесника никакою утешения. Ей оставалось только нести одной свое горе.
Если за день через реку случалось переправляться людям, соглашавшимся слушать речи Марет, она пространно рассказывала о происшедшем с ней и просила совета. Но чего она могла дождаться от мужиков, кроме вздохов и ропота на правительство! Приводили примеры, говорившие о других жертвах войны, и продолжали свой путь. У каждого своя забота.
И день склонился к вечеру. Небо было серое и низкое. Осенний ветер шуршал в береговом камыше и в листве одинокой плакучей ивы под окошком лачуги. Широкая река плескалась свинцово-тяжело меж илистых берегов.
Марет осталась одна с сыном. Он бредил во сне, а когда не спал, то молчал. И Марет бодрствовала у его постели.
На следующий день Якоб проснулся рано. Он беспокойно метался в жару и много говорил. Но в речи его не было ясного смысла, и его трудно было понять. Временами он затихал, потом просыпался еще более беспокойным.
— Где мои деньги? — хрипло спросил он, раскрыв глаза.
— Здесь твои деньги, сынок, — плача сказала Марет и подала ему кошелек, полученный ею от прохожего.
Но Якоб тупо взглянул на него, словно не узнавая. И снова спросил:
— Где моя одежда?
— Здесь, здесь, сынок, в ногах у тебя.
— Давай сюда! — просипел больной.
— Сынок, сынок, что ты с ней будешь делать.
— Хочу одеться. Хочу уйти.
Он зашевелился. Марет заплакала.
— Ты же болен, сыночек, — проговорила она, ломая, руки. — Ты никуда не можешь пойти. Успокойся, сыночек. Тебе нельзя двигаться.
Но Якоб продолжал беспокойно ворочаться на кровати. Это причиняло ему невыразимую боль. На минуту он потерял сознание. Но, придя в себя, испуганно огляделся.
— Я сказал что-нибудь? — с тревогой спросил он.
— А что ты хотел сказать, сынок? — поспешила к нему Марет.
— Ничего. — Он помолчал, собираясь с мыслями. — У меня бывает бред. Мне снятся ужасные вещи. Все только война, дни и ночи, все только убийства. Бррр! — Он затряс головой. — Ты не слушай меня, если мне случится заговорить об этом.
Но Марет не могла упустить ни одного словечка. Вся жизнь ее сосредоточилась сейчас у сыновней постели. Ей ни на минуту не хотелось покидать ее. Когда ей приходилось перевозить людей, она торопилась, насколько позволяли силы, чтобы скорее вернуться. Ее не интересовали теперь никакие разговоры, кроме разговоров о сыне.
И проезжие утешали ее, говоря, что не всем даже так удается вернуться с войны. Те, кому посчастливилось уйти от пули, мерли, как мухи, по дороге домой. Им приходилось просить милостыню, они замерзали в горах, умирали с голоду, их убивали мужицкие шайки. Их трупы валялись на чужих дорогах, в лесах, и не было поблизости никого из родных, чтобы закрыть им глаза.
И прохожие рассказывали о неизвестном солдате, чей труп обнаружен в лесу по ту сторону реки. Он был весь раздет, а лицо изуродовано до неузнаваемости. Видно, бедняга боролся до последней возможности. Но никто из родных никогда не узнает о его судьбе, и мать не прольет последней слезы в память о нем.
Слыша все это, Марет испытывала тайную радость. Ее сын дома, он выздоровеет и начнет новую жизнь. Прошлое словно сон, к которому он больше никогда не вернется!
И она тихо радовалась тому, что сын не забыл ее. Рассматривая вещи сына, она находила среди них те, что дала ему с собой при отъезде. На шее у сына был платок, который она послала ему на войну. Это льстило ее материнскому чувству.
Но когда она подходила к постели сына, отчаяние снова овладевало ею. Она видела его скорчившимся от боли, неподвижным, с закрытыми глазами. Но он не спал. Марет знала это. И она усаживалась возле постели и часами молча сидела там, не решаясь заговорить.
Что-то жуткое витало вокруг сына, след какого-то проклятия запечатлелся на его челе. Он молчал, но было неясно, от боли или от мыслей.
Но еще более жутко становилось, когда он из жизни призрачной, как сон, незаметно переходил к настоящему сну. Тогда лицо его чернело, словно могила, до дна которой не доставал глаз. Черные губы его шевелились, а сквозь закрытые веки, казалось, проникал много повидавший взгляд.
Читать дальше

![Любовь Алферова - Платиновый обруч [Фантастические произведения]](/books/23941/lyubov-alferova-platinovyj-obruch-fantasticheskie-p-thumb.webp)



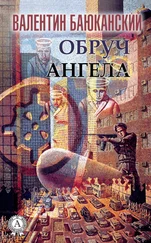
![Сергей Васильев - Обруч [СИ]](/books/426378/sergej-vasilev-obruch-si-thumb.webp)