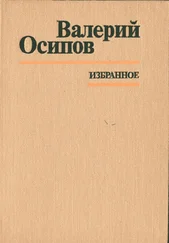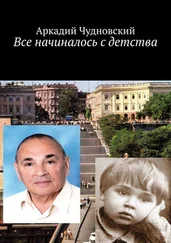Вроде бы мелочь. Но мне снова стало обидно, хотя сам я на этом языке почти никогда не говорил: все мы, мальчишки, между собой разговаривали по-русски, дома тоже звучала русская речь.
Словом, с какого-то времени «еврейский вопрос» начал меня занимать больше, чем прежде. А тут еще пошли-покатились разговоры о том, что люди уезжают в Израиль. Добро бы только чужие, незнакомые, нет, уехал родственник – Юркин дед с материнской стороны. И вот, наконец, приготовления к Юркиной бар-мицве.
В тот день я уходил от него со странным чувством обиды, зависти, даже злости. Уж не знаю, чего там было больше. Подумать только, он всерьез считает, что мужчиной станет в тринадцать лет. А мне-то уже пятнадцать! Смотри-ка, и читать уже успел научиться на иврите. А разве дед не предлагал мне сотни раз за последние несколько лет: «Давай буду тебя учить! Русские книги все читаешь, читаешь, а родной язык, святой язык, не знаешь!»
Вот так я и раскололся. В тот же вечер сказал деду: «Что ж, давайте начнем…»
* * *
«Святой язык» давался мне мучительно-трудно. Я знал два алфавита – русский и латинский, потому что в школе учился английскому. Оба как-то легко и просто, сами собой, укладывались в голове. А тут – не буквы, а какие-то пляшущие, извилистые значки. И читать их, чтобы слово прочесть, надо не слева направо, а справа налево, задом наперед да еще и на точки смотреть: точки, оказывается, заменяют гласные звуки… Уф-ф! А еще кое-кто утверждает, что русский язык – один из самых трудных!
Потом-то я понял, что понятия «трудный» и «легкий» очень относительны. Китайский ребенок, например, легко усваивает иероглифы, а они потруднее еврейского алфавита. Но эти утешительные мысли тогда не приходили мне в голову.
Начались уроки. Закончив утреннюю молитву, дед усаживался рядом со мной на диване, накручивая на коробочку свой тфилин. Левая кисть дедовой руки покрыта глубокими бороздами от ремешка – дед наматывал его очень туго. Борозды разгладятся не скоро, старые руки отекают. Придерживая этой измятой рукой раскрытый молитвенник, дед водит своим корявым пальцем справа-налево по строчке и громко произносит буквы, эти самые «алеф, бэт, вэт» и так далее. Закончив, говорит мне: «Повторяй». Я повторяю, скашивая глаза на молитвенник, – в нем возле алфавита есть транскрипция, написанная русскими буквами.
Кстати, транскрипция эта понятна только мне: дед по-русски читать не умеет. Уж не знаю, как он сам-то учился читать, очевидно, с голоса запоминал, как произносятся буквы, слога и слова. И ведь как помнит – молитву за молитвой шпарит наизусть! Ну, а я подглядываю. Дед сердится: «Зачем глядишь? Слушай, запоминай!» Сдвинув ноги, он кладет книгу на колени и прикрывает рукой русскую транскрипцию. Теперь мы повторяем буквы вместе – вернее, пытаемся делать это вместе, потому что я то и дело забываю, как их надо произносить. Дед, конечно, снова сердится. Я начинаю жульничать, говорю очень тихо, дед не слышит, переспрашивает, оттопыривая рукой ухо, и в этот момент появляется возможность подсмотреть транскрипцию. Если же память меня не подводит, я ору во все горло, и дед одобрительно говорит «хощ», что на узбекском (тоже на одном из наших родных языков) означает «так, хорошо».
Когда мы от алфавита перешли к слогам, оказалось, что на этих страницах уже нет транскрипции. Запоминать приходилось с голоса деда, тут уже и подсматривать не удавалось.
Господи, с раннего детства видел я у деда в руках молитвенник, но почему-то мне и в голову не приходило, что его так трудно читать! А дед не только все помнит, он с огромным чувством эти молитвы произносит, распевает, раскачивается. Он произносит эти непонятные слова так, будто что-то очень важное говорит Богу. Поверить невозможно, что при этом не понимает он прямого смысла того, что читает. «Надо чувствовать»… А как он чувствует? Что он чувствует?
Уроки на диване скоро закончились: дед по утрам всегда торопился на работу и решил для экономии времени заниматься со мной во время завтрака. Тут дела пошли еще хуже. Он чавкал и говорил невнятно, мне хотелось есть – все это не способствовало моему трудолюбию и способности запоминать слова на иврите.
Но дело было, как я теперь понимаю, не в этом и не в сложности иврита. Беда была в том, что заниматься мне не хотелось. Может быть, кое в чем был виноват и дед, который, скажем прямо, не был образцовым учителем, но так или иначе, не разгорелся во мне интерес к древнему языку.
Отказаться от занятий я не мог, сам сказал деду: «Давайте начнем». На уроках, пока мы вместе повторяли буквы, слога, а потом и слова, все же кое-что застревало в мозгах, запоминалось. Но как только дед уходил, строго наказав мне, чтобы я к завтрему выучил то-то и то-то, меня охватывала невероятная лень. И день, который мне вспоминается, от других не отличался ничем.
Читать дальше