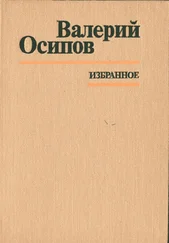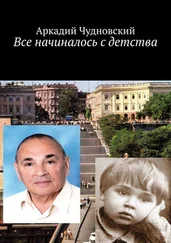Последний ритуал посвящался бороде. Обхватив ее, дед Ёсхаим медленно и все еще продолжая зевать потягивал свою бородку книзу. Может быть, он с нею таким образом здоровался, может быть, просто придавал ей нужную форму – не знаю.
Покончив с бородой, дед начинал одеваться. Меня этот ритуал занимал и веселил ничуть не меньше предыдущих, особенно в холодное время, когда, наблюдая за ним, я думал: «понятно, почему дед горячий, как печка!»
Прошаркав к окну, где стояли два стула, дед садился на один из них. На другом лежала одежда – целая груда. С видом серьезным и сосредоточенным, дед протягивал руку и брал со стула ватные штаны. Натянув их на голубоватые кальсоны, дед с таким же глубоким вниманием надевал на майку с длинным рукавом теплую и плотную рубаху. Тут он поднимался со стула и, втягивая живот, тщательно заправлял майку и рубаху в штаны. После этого, крепко затянув ватные штаны на поясе специальной веревочкой, натягивал еще и брюки. Разумеется, большего размера чем те, которые он носил в теплую погоду. Во всех этих одежках дед должен бы походить на кочан капусты. Но нет, не похож! Хоть и поплотнев, он все же выглядит ладным и вполне благообразным.
Все с тем же строгим и серьезным видом, ни на секунду не отвлекаясь, дед снова усаживался на стул и закидывал ногу на ногу. Носки? О нет! Дедушка всегда носил сапоги. Поэтому со стула доставалась портянка. Медленно и торжественно, ви-ток за витком, дед плотно обматывал ею ступню… Пятку… Щи-колотку… Последний виток – и перед дедом торчит аккуратный белый кокон. Не так-то легко засунуть его в сапог. Шея у деда напрягается, лицо краснеет… Я тоже невольно напрягаюсь вместе с ним… Хоп! Сапог натянут. Теперь – вторая нога…
Все. Дедушка готов.
* * *
Перед тем, как уйти на работу, дед обычно заходил в кладовку за материалом и всяким там инструментом – в уличной сапожной будке хранить его было небезопасно. Я только со-брался подремать еще немного, как услышал, что снова скрипнула входная дверь: дед почему-то вернулся в дом. И тут же, еще пронзительнее, чем дверь, заскрипел голос бабушки Лизы:
– И-и-и! Все сапоги в снегу! Стой на тряпке, не ходи по полу! Я, больной человек, должна убирать за всеми… Что тебе нужно, а?
Я услышал, как дедушка что-то пробубнил в ответ. Ослушаться бабушки он не смел. Сойди он, не дай Бог, с половой тряпки, она бы подняла такой визг…
– ВалерИК! Дедушка зовет! Скорей! – скомандовала бабушка.
Я поторопился выйти. Дедушка покорно стоял у входной двери. Кожаная ушанка была смешно нахлобучена на самые брови, бородка казалась комком прилипшего к подбородку снега, такого же, каким были облеплены галоши на его сапогах.
– Там сумка возле кладовой, мне всего не унести. Вы с Юркой подвезите мне к обеду, – попросил дед, не глядя на бабку Лизу.
С его ног уже, действительно, натекла на тряпку лужица. Он поправил на плече котомку, шагнул за порог, опять заскрипела дверь. И снова, громче двери, заскрипела бабушка, выжимая намокшую тряпку:
– Я, больной человек, должна убирать за всеми!
* * *
Вернувшись в спальню, я уселся у окна, у того самого, где за тюлевой занавеской нередко сиживала разведчица-бабушка. Я увидел волшебный, заснеженный зимний двор. Дед Ёсхаим с котомкой за плечами и с сумкой в руке как раз подходил к воротам. Глубокие следы тянулись по девственно чистому снегу через весь двор. Ответвлялись они и к туалету, у которого дед, несмотря на мороз, совершал ранним утром свое обычное омовение. Никаких следов, кроме дедовых, во дворе не было. Даже Джек не вылез сегодня из своей будки проводить старого хозяина – уж очень было холодно. Только отважный воробей попрыгал немножко в огороде – я с трудом разглядел в неярком еще свете тоненькую елочку его следов.
Холодно во дворе. Заснеженные деревья и кусты застыли, как причудливые изваяния. Снег словно бы для того и падал, чтобы скульптор-природа могла создать эту немыслимую красоту. В это утро снег был легким, пушистым. Вот он посыпался с одной из шпанок. Сначала – с макушки на ветку. Потом – на другую… На третью… И внезапно все дерево окуталось тончайшей белой вуалью, как невеста фатой…
Как тихо во дворе! С концов водосточных желобов, которые, подобно высунутым языкам, торчат под крышами, свешиваются длинные, голубоватые сосульки. Чуть потеплеет – они тут же начнут свою долгую, звонкую песенку. «Кап-кап… Кап… Клон-клон-клон…». Но сейчас и они молчат. Слишком холодно. Вон и виноградные лозы у ворот укутаны на зиму брезентом, обмотанным проволокой.
Читать дальше