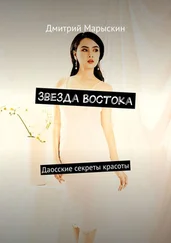Беда, впрочем, как известно, в одиночку-то не гуляет. И уж коли вцепилась клыками своими, скоро не отцепится. Так и с Сашкой случилось. Несколько часов корпели над телом его двое военных хирургов. Резали. Пилили. Рассекали. Да наткнулись на срастание легкого с задней стенкой, что образовалось, скорее всего, от перенесенной еще в училище пневмонии, многолетнего пристрастия к крепкому табаку. Отсекли, но задели, видать, крупный сосуд. Хлынула кровь. Следом – пневмоторакс. Пришлось ушивать сосуды. Ставить торакальный дренаж. И назначать новую операцию.
Очнувшееся после наркоза затуманенное сознание капитана испытало новую боль в довесок к прежней. Несказанное уныние. И ощущение пустоты. Будто выпотрошили его, как дохлую рыбу.
Новую операцию те же самые доблестные хирурги сделали через две недели. Вновь кромсали, пилили, иссекали и шили. На сей раз без осложнений и сюрпризов. Все как написано в классическом учебнике по нейрохирургии Иосифа Иргера.
Очнулся Сашка от свежего ветерка, горько пахнущего клейким соком тополиной почки. Очнулся и не почувствовал боли. Совсем никакой. Лежал и глотал со слезами вместе терпкий этот ветер. И казалось ему – это рай, куда попасть можно, непременно пройдя через ад. А дальше – и идти некуда. Дальше – только вселенское счастье. И нега вечной весны. И вечной любви – счастье. Обернувшись к окну, сквозь переплетения трубок и проводов, по которым в тело его поступали химические соки и соединения, считывался пульс, сердечный бег и давление ртутного столба, увидел он краешек небесной лазури да липкий блеск изумрудных побегов старого тополя. И осклабился запекшимся ртом.
С волшебного того дня наступила эпоха Сашкиного возрождения. И рубал теперь за двоих – жирком по бокам аж оброс, округлился физиономией. С радостью выставлял санитаркам культи для лимфодренажа, для тугой перевязки, ожидая со дня на день, когда доставят ему с протезной фабрики новые конечности. Над хохмами соседа своего Верунчика потешался от души, а бывало, и затмевал того собственным творчеством, особенно когда пацаны добыли ему гитару.
Ветеранский этот инструмент изготовлен был, судя по видной через голосник жухлой этикетке на нижней деке, на Бобровской гитарной фабрике, что в Воронежской области, в год начала афганской кампании. Крашеная фройляйн с потертой наклейки, выжженный «узором» знак ВДВ, процарапанные гвоздем по лаку номера воинских частей, соединений и госпиталей, имена бойцов и их возлюбленных свидетельствовали, что гитара эта проделала большой боевой путь от Лейпцига до Кундуза, от Термеза до Кандагара, покуда, поменяв не один десяток струн и почти все колки, не добралась до столицы СССР.
Музыкальным образованием сына по первости озаботилась, как водится, мама, мечтающая, что из Сашки со временем может произрасти какой-нибудь Ван Клайберн или Святослав Рихтер. Только вот среди советских пацанов того времени популярны были не еврейские и немецкие пианисты, а прославленная ливерпульская четверка «Битлов». Под них стриглись горшком, заказывали в ателье костюмы с расклешенными портками да учились бренчать на гитаре. Так что, когда встал вопрос, на какое отделение отправить десятилетнего отпрыска в музыкальную школу, тот категорически заявил: исключительно на гитару. Месяц почти учился Сашка правильно садиться. Ставить руку на деку. Пальцы держать. Перебирать пальцами по струнам. Ноты читать. Начал разучивать первые композиции: «Три веселых гуся», «Как под горкой», «Ах, ты зимушка-зима». Обучал его игре старый цыган Богдан Семенович Штепо. Требовал играть хотя бы по два часа ежедневно. Растить мозоли на пальцах левой руки, что прижимали струны к черному грифу. Вновь и вновь заставлял Сашку повторять «веселых гусей». Но вот с сольфеджио вышла незадача. Мудреная эта наука, состоящая из бесконечных тренировок слуха, памяти, пения, да еще в компании кисейных барышень, которые голосили куда как ладнее, прилежнее, звонче, никак не давалась Сашке. Блеял на задней парте. Пыхтел ежом. Багровел, когда вызывали его к инструменту петь диктант в одиночку. Зарабатывал вполне заслуженные «неуды». И в довершение ко всему захворал ангиной. Голосить не мог. Струны теребить изленился. Так и забросил в результате всю эту музыку.
В училище, когда пристала пора самоутверждаться да девок кадрить, вновь вспомнил про «струмент». Изучил четыре блатных аккорда, тексты популярных тогдашних шлягеров про электричку и неумирающую любовь, что и позволило в одночасье заделаться, как говорится, душою курсантских компаний. Голос у него к тому времени сделался ладный, баритонистый, с едва заметной прокуренной хрипотцой. Девки млели. Парни уважали.
Читать дальше
![Дмитрий Лиханов Звезда и Крест [litres] обложка книги](/books/437533/dmitrij-lihanov-zvezda-i-krest-litres-cover.webp)



![Гарри Гаррисон - Молот и Крест [litres]](/books/386430/garri-garrison-molot-i-krest-litres-thumb.webp)

![Мередит Рузью - Мертвецы не рассказывают сказки - Самая яркая звезда Севера [litres]](/books/407922/meredit-ruzyu-mertvecy-ne-rasskazyvayut-skazki-sam-thumb.webp)
![Джанет Эдвардс - Звезда Земли [litres]](/books/420293/dzhanet-edvards-zvezda-zemli-litres-thumb.webp)