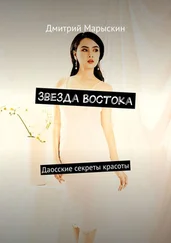Удивленно взглянула девушка на дьякона. Перекрестилась. В ожидании поддержки взглянула на мать. Но та словно ничего не слышала. Запивала теплым молоком сладкую ячменную лепешку.
– Хорошо, – молвила Иустина, – передай, к полудню явлюсь.
Путь ее к храму лежал сначала к стене Селевка, а оттуда по главной улице, огороженной портиками, многолюдной, как и обычно, кишащей зеленщиками, торговцами медной посудой из Дамаска, пестрящей персидскими коврами, уставленной греческими амфорами различных размеров и предназначений, кроликами и голубями в деревянных клетках, черными угрями, красноперыми окуньками, зелеными щуками из Оронта. Гомон торгующегося люда. Теплый запах свежеиспеченных лепешек. Жареного миндаля. Печеных бобов. Солдатского пота. Умащенной женской плоти. Конской мочи, что стекала ручьями из конюшен городского ипподрома. Яркое, до рези в глазах, солнце порошило главную улицу города золотой пылью, трогало лучами своими теплыми, сердечными всякую, пусть даже самую малую и немощную тварь, будь то блоха, запутавшаяся в шерсти шелудивого пса, или прокаженный в перепачканной гноем рубахе, прикорнувший в изнеможении у подножия прохладной колонны. Оттуда, буквально продираясь сквозь плотную толпу горожан и пришлых, шла до Нимфея с вычурными мозаиками, изображающими Океан, мимо общественных терм Ливиании, названных так в честь доброй горожанки, что продала свои земли и сады под городские нужды императору Северу, ныне совсем заброшенных, заросших бурьяном и диким плющом, с высохшими, порушившимися бассейнами, скамейками пожелтевшего мрамора, обвалившейся крышей. Мимо театра Цезаря – величественного, достойного своего имени и звания третьего театра империи, в котором размещалось до двадцати тысяч свободных горожан, а рабы и отпущенные изображали им на потеху или даже в укор классические пьесы Еврипида, комедии Аристофана. В дни Олимпийских ристалищ театр принимал вдохновенных декламаторов и стихотворцев, которые также награждались лавровыми венками и собирали не меньше публики, чем борцы или атлеты. В будни здесь было непривычно тихо. И только несколько рабов, что, возможно, этим же вечером станут представлять тут трагедию «Эдип в Колоне», монотонно метут вениками пустую сцену. А оттуда и до Железных врат, открывающих проход в стене Тиберия, рукой подать.
Покуда брела Иустина уже и не по тропке, как прежде, а по дорожке широкой, протоптанной к храму последователями новой веры, представляла, фантазировала восхищенно, что станет с этой дорогой, с храмом этим и самой верой христианской через сто или даже через тысячу, две тысячи лет. Станет ли шире путь? Не зарастет ли бурьяном, как зарастает ныне сорной травой величественная прежде Дафнийская роща? Сохранят ли в чистоте и первозданности веру христианскую будущие, еще не рожденные ее иерархи, которые будут верить, конечно же, совсем иначе, поскольку из веры их постепенно сотрется, а следом и вовсе исчезнет устное свидетельство тех, кто принес и посеял ее на скудных этих землях. А если и сохранят, если вера эта, по свидетельству апостолов, распространится по всей земле, овладеет людьми и по эту, и по ту сторону империи, станет единственной и неоспоримой, не постигнет ли иерархов ее гордыня, тщеславие и иные греховные попущения, коими сокрушались множества царств и даже самых великих империй, таких как Римская, которая уже трещит по швам? Вспомнит ли кто тогда их, самых первых подвижников веры, что под страхом лишений и даже самой смерти сеял слова Спасителя в обескровленных язычеством душах. Кто шел под плети, на вырывание ноздрей и глаз, кто за счастье почитал подобно Ему быть распятым. Но если и не вспомнят, невелика беда! Не памяти ради надменных потомков идет она нынче в храм, но ради Того, с Кем связала свою жизнь – и эту, и будущую, ради Кого сберегла и до смертного часа станет беречь главное свое сокровище – девство. Знали бы они, те, кто придет им на смену, какое это было счастливое и оттого чистое время – служить и быть рядом с Христом в самые первые времена!
…Прежде на этот куст возле храма она никакого внимания не обращала. Словно воском натертые листья суданского гибискуса давно покрылись дорожной пылью. По болезни ли, за отсутствием ли любви и ухода куст совсем не цвел. Да и само его существование на бесплодной, каменистой почве предгорий было неуместным и лишним. Но тут вдруг воспарил. Оживился не иначе как Святым Духом от соседства мистического. Стряхнул, словно дошедший до дома путник, дорожную пыль с листвы. Налился бутонами крепкими, тугими, а в иных местах уже и выстрелил или только разворачивал миру глубокий чарующий цвет. Пять нежных лепестков цвета кармина с яичным основанием окружали горделиво торчащий стилус, увенчанный, будто царской короной, стигмой такого же, как и лепестки, цвета. Горные пчелы с испачканными желтой пыльцой брюшками и лапками ползали суетливо по стилусам, по стигмам гибискусов, оплодотворяя их невесомой пыльцой, пробуждая в незримом, неосязаемом чреве растений новую жизнь и надежду. Мускусный запах цветущего кустарника разливался повсюду. Кружил голову. Дурманил, будто сладкое вино. Египтяне варят из этих цветов чудотворный напиток. Сирийцы – настойки, открывающие врата любви. Теперь, видать, коварный гибискус хотел одурманить и Иустину, но та, хоть и чувствовала пряный аромат, хоть и встрепенулось сердце ее, да только вспомнила, какие испытания уже выпало перенести душе ее девичьей! Удивилась она упертости придорожного этого кустика, силе его внутренней, подобной вере христианской, что дремала до поры под спудом забвения, пыли дорожной, жажды и глада, но вот воскрес куст, расцвел, обрел красоту и смысл. «Всякое дыхание да хвалит Господа!» – вспомнила Иустина слова псалма. Перекрестилась и, склоняясь, вошла под своды храма.
Читать дальше
![Дмитрий Лиханов Звезда и Крест [litres] обложка книги](/books/437533/dmitrij-lihanov-zvezda-i-krest-litres-cover.webp)



![Гарри Гаррисон - Молот и Крест [litres]](/books/386430/garri-garrison-molot-i-krest-litres-thumb.webp)

![Мередит Рузью - Мертвецы не рассказывают сказки - Самая яркая звезда Севера [litres]](/books/407922/meredit-ruzyu-mertvecy-ne-rasskazyvayut-skazki-sam-thumb.webp)
![Джанет Эдвардс - Звезда Земли [litres]](/books/420293/dzhanet-edvards-zvezda-zemli-litres-thumb.webp)