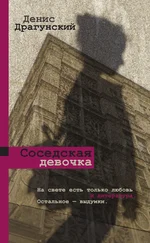Но была и третья, уже чисто мужская, даже, извините за выражение, жеребячья причина. Съемки у Россиньоли, блестящая компания блестящих женщин, широко распахнутая книга приключений — и новые странички донжуанского списка.
Нелишне будет упомянуть следующий печальный факт: когда Дирку исполнилось шестьдесят семь, он все-таки решился написать Лизе во Фрайбург. Представьте себе, она продолжала работать в городской газете.
Он написал ей серьезное, умное и, безусловно, покаянное письмо, в котором описал свою глупую и, в общем-то, несостоявшуюся попытку войти в высшие сферы мирового кинематографа, свою кратковременную и бесплодную славу и быстро растраченные большие деньги (совет, который ему давала актриса в «Гранд-отеле», не пригодился, хотя об этом он в письме не написал). В финале этого длинного покаяния Дирк просил всего лишь о возможности увидеться. О надежде на восстановление отношений он не упомянул. Думал, что она и так все поймет.
Честно говоря, он не ожидал ответа. Он лишь хотел знать, что она прочитала это письмо, и размышлял, существуют ли способы в этом удостовериться. Но ответ пришел довольно скоро. На удивление скоро, словно бы она села его писать в тот самый день, когда получила письмо. Письмо было тоже долгое, тоже очень умное и тоже отчасти покаянное.
Лиза писала, что и она со своей стороны раскаивается, что не настояла на браке или хотя бы на том, чтобы он взял ее с собой на съемки как спутницу, как любовницу, как личную журналистку, как кого хотите.
* * *
«Потому что я знала, — писала Лиза, — что при всех твоих талантах, при всем остроумии, начитанности и мужественно-значительном виде (Дирку в этих словах почудилась убийственная ирония, и ему захотелось смять письмо, порвать в клочья и выкинуть с глаз долой, но он все-таки стал читать дальше) ты человек слабый, которому нужна поддержка и даже, прости меня, каждодневное руководство твоими поступками и решениями. Теперь мне кажется, что я тогда смогла бы это сделать. Возможно, твоя жизнь — да что уж там! — возможно, наша с тобой жизнь могла бы быть совсем другой. Счастливой, славной и, наверное, богатой.
Но тогда я была другая. Тогда я жила под обаянием вздорной идеи, будто в союзе мужчины и женщины лидером должен быть непременно мужчина, что только мужчина должен принимать решения, звать за собой в будущее или, наоборот — оставлять позади. Что любое его решение — это и есть проявление той самой мужской силы и мужской власти, которой я почему-то с детства привыкла поклоняться, которую я так обожала в своем отце, в своих братьях, в своих учителях. Хотя, если говорить откровенно, мой отец тоже был слабый человек. И сын слабого человека. Мой отец родился от мужчины и женщины, раздавленных Трианоном, от нищих, униженных и обескураженных немцев. Поэтому мой отец все время форсил, он старался показать, что что-то из себя представляет. Он был стопроцентным нацистом, а после поражения стал таким же грозным и принципиальным свидетелем на всех антинацистских процессах. Ему очень повезло. Он не служил ни в СС, ни даже в вермахте (что-то с легкими, не слишком опасное, но хроническое), был обыкновенным школьным учителем, причем преподавал — в этом ему еще раз повезло — математику, которая вне всякой политики. Поэтому он не был ни в чем замаран, разве что в том, что громко сочувствовал всему, что делали нацисты. И называл себя, так мне рассказывала мама, убежденным гитлеровцем. А после поражения стал таким же убежденным демократом. И все это с решительно сдвинутыми челюстями, со сверкающими глазами, с какой-то полувоенной резкостью в каждом движении и шаге. О, это особое немецкое искусство сверкать глазами, описанное Генрихом Манном в романе „Бедные“, — чуть набычить голову, загнать зрачки в левый верхний угол, потом резко голову поднять и одновременно быстро взглянуть направо и вниз!
Я была маленькая девочка и думала, что мужчина должен быть именно таким — сверкнул глазами, и все за столом прижали ушки. Но что это я все о себе и о себе, — писала Лиза. — Еще раз говорю тебе, дорогой Дирк, я очень тебя любила. Помнишь, как я отдалась тебе в первый же вечер? Мы начали целоваться прямо в твоей гримерке, а после побежали к тебе, в ту маленькую квартирку, которую ты тогда снимал и в которой прожил до своего отъезда. Не потому, что я была газетная курва, которая делает себе карьеру этим местом, — такие девочки бывают, особенно в отделах искусства, — а потому, что я влюбилась в тебя. Ты был лицом похож на кого-то из моего детства, на какого-то прекрасного учителя, такого же сухого, мужественного, с умными, в душу глядящими глазами. Знаешь, я даже рассердилась на тебя, когда ты оказал мне протекцию и меня буквально через неделю после публикации интервью приняли в штат, но потом поняла, что ты сделал это по доброте душевной, ведь я уже была твоей женщиной и ни о чем тебя не просила. Вот если бы ты сначала поговорил с редактором, потом бы намекнул мне на такое, как нынче выражаются, окно возможностей и стал бы меня подталкивать к дивану, тогда другое дело, но у нас все было чисто, человечно и любовно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
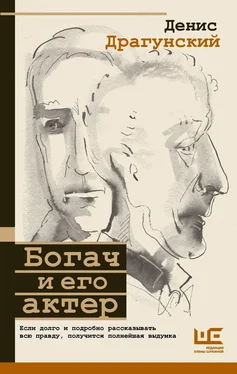









![Денис Драгунский - Дочь любимой женщины [сборник]](/books/404207/denis-dragunskij-doch-lyubimoj-zhenchiny-sbornik-thumb.webp)