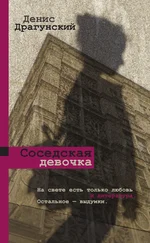— Может быть, за вашу парижскую измену? — спросил Дирк.
— Она ничего об этом не знала, — твердо сказал Якобсен. — Откуда ей было об этом знать?
— Мало ли откуда! Молодые жены, они очень чуткие. Может, тем же вечером увидела какой-то волос на вашем пиджаке. И все поняла.
— Да перестаньте вы! — махнул рукой Якобсен, но было видно, что эта тема его заинтересовала. — Ну волос, ну на пиджаке, ну и что? В ресторане, в театре, — быстро заговорил он. — Вы еще скажите, что эта продавщица-негритянка ей донесла.
— Про продавщицу-негритянку не скажу. Это был бы уже какой-то пошлый детектив. Но Кирстен могла почувствовать.
— Прекратите, — оборвал Якобсен. — Что она там могла почувствовать? Что она там вообще чувствовала, кроме тупого желания поскорее забеременеть, устроить детскую и забыть обо мне насовсем? И не разубеждайте меня. Не вздумайте говорить, что я, дескать, в ней не увидел человека. Мне это уже успела сказать моя мама.
— Вы говорили, что ваша мама была женщиной великого ума, глубины и проницательности, — уколол его Дирк.
— Ага, — кивнул Якобсен, — великой проницательности и огромного ума. Сама своими руками погубила собственную дочь, ну просто крупнейший философ и педагог по совместительству. Моя бедная Кирстен просто меня не любила. Она, наверное, никого не любила. Даже не знала, что это такое — любить. Она была вся фарфоровая. Вся ее жизнь — это был такой домик из фарфоровых статуэток: мама, папа, ребенок, муж, коляска, столик, диванчик — ну сами понимаете. Наверное, у вас в Германии тоже есть целые витрины, заполненные вот такой фарфоровой жизнью. Кирстен была оттуда, из этой витрины. И вообще, вина — это очень опасная вещь. Как только начнешь говорить, что виноват, сразу как-то начинаешь своей виной упиваться, призывать к себе жалость окружающих. Я такой виноватый, пожалейте меня и простите меня заранее. Упиваться виной так же ужасно, как упиваться правотой. Вы, немцы, упиваетесь виной. Русские, наоборот, предпочитают упиваться правотой. У меня было двое или трое русских приятелей. Они свергли царя, победили Гитлера, запустили человека в космос, им очень трудно, их все ненавидят, на них все нападают, они всех побеждают и идут к новым достижениям, несмотря ни на что. Вот такое русское самосознание. Они всегда правы. Упиваются, повторяю, своей правотой. А немцы виноваты если не всегда, то на этом историческом отрезке. Всерьез и надолго. Думаю, поэтому у русских и у немцев такие хорошие отношения. Они легко дополняют друг друга. Тем более, — хитро подмигнул Якобсен, — и у русских, и у немцев есть свои диссиденты. Процентов пять русских считают, что всё наоборот. Что, дескать, мы, русские, виноваты, не надо было устраивать революцию и выселять немцев из Восточной Пруссии. Но и среди немцев есть процентов пять нисколько нераскаявшихся гитлеровцев, которые до сих пор, несмотря на все усилия союзников, несмотря на постоянное присутствие рейнской армии, считают, что все беды от евреев, а Гитлеру всего-навсего не надо было нападать на Советский Союз. Это его единственная ошибка. Не повезло парню, а так-то он молодец.
Вот, пожалуй, и все о моей бедной Кирстен, — неожиданно закончил Якобсен. — После этого я хотел жениться, но дело не шло дальше неопределенных размышлений при виде хорошей девушки из хорошей семьи. Как-то так вышло, но романы у меня были, были. Вы об этом еще узнаете в процессе съемки фильма. А вы-то сами были женаты?
— Нет, не был.
— Да-да, я знаю, — покивал головой Якобсен. — Мне Россиньоли рассказал. Я же спрашивал, что вы за птица. Кому я доверяю исполнение столь важной роли. Может, расскажете, отчего вы не женились?
— Трудно сказать, господин Якобсен, — начал Дирк. — Если у вас была такая, можно сказать, большая жизненная трагедия, то у меня шло как-то вразброс, неопределенно и дергано. Я окончил среднюю школу. Работать на фабрике не хотел. Странный я был человек. Не похожий на настоящего немца. Бездельник и романтик. Я был похож, скорее, на тех немцев, которые составляли суть и сердцевину немецкой души где-нибудь веке в восемнадцатом — бродячий студент, музыкант, мистик. Вам кажется, что я любуюсь собою, хвастаюсь? Нет, ни капельки. Мне это было горько осознавать тогда и неприятно вспоминать сейчас. Я был обыкновенный шалопай. Погибший на фронте отец, несчастная мать, умершие в раннем детстве сестры. Какая-то чрезмерная, нервная, я бы даже сказал, больная любовь матери ко мне. Она меня от всего защищала, оберегала. Неизвестно где добывала деньги, чтобы меня накормить, чтобы было что-нибудь сладенькое, вкусненькое, чтобы раздобыть мне красивую курточку, новые ботинки. Иногда ребята из нашего квартала мне завидовали. Одна девочка, у которой были совершенно невероятной дырявости туфельки, обозвала мою маму проституткой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
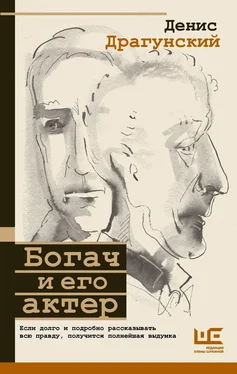









![Денис Драгунский - Дочь любимой женщины [сборник]](/books/404207/denis-dragunskij-doch-lyubimoj-zhenchiny-sbornik-thumb.webp)