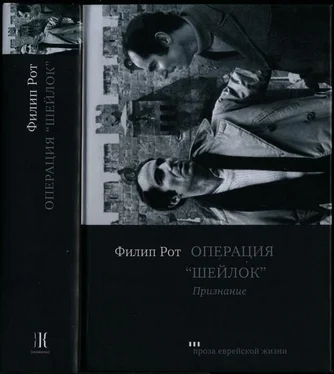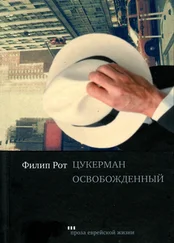13.09
Шабат и Рош а-Шана
6 часов утра. Из нашего номера в отеле «Царь Давид» открывается красивейший вид на холмы Иерусалима. В каких-то 400 метрах от нашего отеля была иорданская граница, где среди развалин Старого города стояли снайперы и обстреливали Новый город. Здесь было 39 культовых сооружений, и все они были взорваны арабами во время последней Войны. Эти люди заслуживают всяческой помощи и похвал всей диаспоры. Защитникам этого города от 18 до 25 лет. По всему городу рассредоточены солдаты, но они держатся незаметно. Это современный город, где сохранены все старые руины. Сегодня наш последний день в городе, о возвращении в который евреи молились 2000 лет, и теперь я могу понять, почему. Надеюсь, им никогда не придется его покинуть.
Когда вошел Смайлсбургер, я читал, а также записывал, делал заметки, пытливо прорабатывая каждую тягомотную страницу дневника, — для предисловия, которое, как утверждал Суппосник, приблизит публикации Клингхоффера в Америке и Европе. А что еще мне было делать? Что еще я вообще умею делать? Тут я даже над собой не властен. В голову понемножку стали залетать мысли, обрывки мыслей, и я стал их ловить, чтобы — одновременно — распутать и сплести воедино, это мое прирожденное занятие, непреходящая потребность, особенно когда на меня давят сильные чувства вроде страха. Писал я не на обороте счета из «Американской колонии», куда раньше скопировал с классной доски загадочные слова на иврите, начертанные мелом, а на дюжине чистых страниц, которыми кончалась красная записная книжка. Я не нашел ничего другого, где мог бы делать более-менее пространные заметки; постепенно, когда во мне решительно возобладало привычное, прежнее состояние души (а также, пожалуй, в знак протеста против своего загадочного полузаточения), я обнаружил, что углубляюсь шаг за шагом в хорошо знакомую мне бездну: вначале — шок от того, что твой нечестивый почерк соседствует с почерком убиенного мученика, угрызения совести добропорядочного гражданина, который обошелся варварски если и не со священным текстом, то с редкостью, которая определенно ценна для архивистов; затем эти чувства сменились нелепо-ученической оценкой своего положения — меня же специально ради этого похитили и втолкнули в этот класс, меня не отпустят на волю, пока толковое предисловие, отражающее верный еврейский взгляд на вещи, не будет сочинено и передано в надлежащие руки.
Ниже — впечатления, которые я начал записывать начерно еще до того, как Смайлсбургер лукаво вышел на сцену и многословно объяснил, зачем я здесь на самом деле. Когда он обработал меня как следует, я обнаружил: две тысячи сочувственных слов в память о человечности Клингхоффера — лишь самое малое, чего требовали обстоятельства.
Чрезвычайная ординарность заметок. Абсолютно здравая ординарность К. Жена, которой он гордится. Друзья, с которыми он любит проводить время. Немножко денег, выкроенных на круиз. Делать то, что ему хочется делать, на свой собственный безыскусный манер. Наглядное олицетворение — эти дневники — «нормализации» евреев.
Ординарный человек, который по чистой случайности попал в водоворот исторической борьбы. Жизнь, прокомментированная историей там, где никак не ждешь вмешательства истории. На круизном лайнере, который во всех отношениях внеисторичен.
Круиз. Самое безопасное, что только может быть. Плавучая тюрьма. Ты никуда не движешься. Это круг. Перемещения беспрерывные, но никакого прогресса. Жизнь поставлена на паузу. Ритуальное промежуточное состояние. Времени хоть отбавляй. Ты изолирован, как в полете на Луну. Путешествуй, замкнувшись в своем кругу. Со старыми друзьями. Не надо учить языки. Не надо опасаться непривычной пищи. Ты на нейтральной территории, путешествие под охраной. Но никаких нейтральных территорий не бывает. «Ты, Клингхоффер из диаспоры, — злорадствует воинствующий сионист, — даже там, где ты полагал, будто тебе ничего не угрожает, вышло иначе. Ты был еврей, а евреи даже на круизном лайнере — не на круизном лайнере». Сионист порицает стремление евреев жить нормальной жизнью где угодно, только не в Крепости Израиль.
Ловкость ООП: эти обязательно придумают, как им внедриться в самоуспокоительные фантазии еврея. ООП тоже отрицает, что евреи могут находиться в подлинной безопасности, если только не вооружены до зубов.
Дневники К. читаешь, держа в голове всю их композицию, совсем как дневники А. Ф. [71]. Знаешь, что он умрет и какой смертью умрет, а потому читаешь их от конца к началу. Знаешь, что его вышвырнут за борт, и потому все его скучные мысли — мысли, которые и есть окончательный итог существования каждого из нас, — озаряются беспощадным красноречием, и К. внезапно становится живым человеком, описывающим все блаженство жизни.
Читать дальше