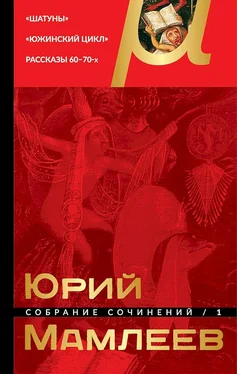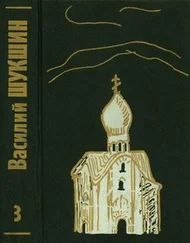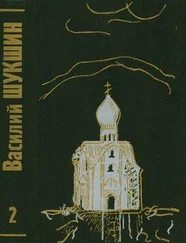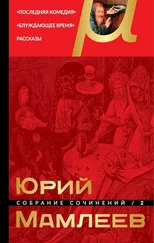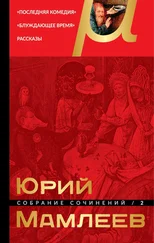Наконец Соннов оказался в старом районе Москвы.
Федор сошел у маленького летнего безлюдного кафе. Безразлично попивая сок, думал о своем. Мысли уходили далеко-далеко, в засуществующее; собственное сознание казалось одиноким, слегка чудным, хотя и своим, но таинственно-неизвестным, как марсианский ветер; Федор и думал о себе, точно о марсианском путешественнике. Равнодушно щупал ноги, как стол. Состояние вело дальше, к убийству «метафизических». Он совершенно отбросил всякую мысль о внешних последствиях; ему было безразлично, что с ним будет потом — арестуют его или уничтожат; единственное, что интересовало его, — это новое, всеохватывающее убийство, последнее свершение, после которого все на земле станет третьесортным и сам он, может быть, уйдет в новую форму бытия; и поэтому все предосторожности, которые он принимал раньше, готовясь к своим прежним, как ему теперь казалось, «мелким» убийствам, отпадали за ненадобностью.
Формально он решил использовать два адреса, которые он узнал случайно еще раньше из разговоров с Падовым и Анной: один московской квартиры Извицкого, однокомнатной и заброшенной, в которой он жил один; другой — падовского подмосковного «гнезда», где, как он слышал, должны были приютиться сейчас «метафизические». Последний особенно привлекал Федора: его тянуло сразу, одним ударом, совершить свое действо. Но, подумав, он решил сначала забрести к Извицкому, а потом сразу ринуться в падовское «гнездо».
Нечеловечески Федор тащился мимо старинных, многоэтажных домов по безлюдным арбатским переулкам. Останавливался посмотреть в пустоту. Вглядывался в еле возникающие фигурки людей; косился на окна, которые меркли в своем безразличии.
Вход в квартиру Извицкого был со двора; дворик оказался почти петербургский: маленький, холодный, зажатый между громадами каменных семиэтажных домов; но все же безобразно-загаженный мертвой, серо-исчезающей и все-таки вонючей помойкой.
Лестница вела ввысь круто, с какими-то безжизненными провалами по бокам и, кажется, по черному ходу; там и сям виднелись грязные, оборванные двери квартир; еле слышались голоса; но Федор знал, что здесь единственный ход в комнату Извицкого; он тяжело дышал, поднимаясь, и все время ловил взглядом свет из каких-нибудь полуокон, полущелей; когда же была полная тьма, поворачивал голову в сторону по еле слышному, тихому повелению; в кармане нелепо болтался нож.
Наконец на самом верху засветилась какая-то щель; по холодному и тупому вздрагиванью сердца Федор понял, что это квартира Извицкого. Странная истома овладела им; на лице был пот, а в глубине слышалось пение; самобытие поднималось внутри себя, чувствуя окружающее, как запредельное и смерть. Федор увидел, что дверь слегка приоткрыта, и, словно прижавшись к пустоте, осторожно заглянул внутрь… То, что он увидел, поразило его: нелепо-захламленный какими-то полустаринными, полубудущими вещами угол комнаты, огромное, как бы вовлекающее в себя зеркало, перед ним оборванное, вольтеровское кресло и в нем — Извицкий, в исступленной позе глядящий на себя в зеркало. Федор сжался, чувствуя невозможное. Машинально вынул нож. И вдруг услышал стоны, бесконечные, глубокие, словно исходящие из самовлюбленной бездны. Федор застыл, всматриваясь в отражение, и не мог двинуться с места.
Глаза Извицкого, широко раскрытые, напоенные каким-то жутким, пугающим себя откровением, в упор, не отрываясь смотрели на точно такие же широко раскрытые глаза своего двойника. Федору все хорошо было видно. Два лика Извицкого дрожали в непередаваемой, бросающейся навстречу друг другу ласке; кожа лица млела от нежности; неподвижны были только глядящие друг на друга, готовые выпрыгнуть из орбит глаза, в которых застыла самонежность, ужас перед Я и безумие нечеловеческого переворота. Все полуобнаженное тело Извицкого и его лицо выражало нескончаемое сладострастие, бред самовосторга, страх перед собой, смешанный с трепетом приближающегося оргазма, и порыв броситься на собственное отражение. Волосы были всклокочены, рука тянулась к своему двойнику и, встречаясь, две руки дрожали от возбуждения, готовые проникнуть в себя и утопить друг друга в нежности. Все тело, казалось, источало сперму и дрожало в непрекращающемся, спонтанном оргазме, точно вся кожа, каждая из миллионов ее пор, превратилась в истекающий кончик члена. Стон от двух лиц шел навстречу друг другу. Зеркало было холодно и невозмутимо, как мир. Из дальнего угла в нем отражался страшный портрет Достоевского, Достоевского с неподвижным и страдальческим взором.
Читать дальше