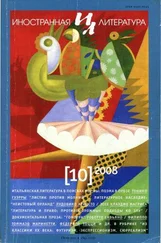Если река есть видимая вода, открытая небу и людским взглядам, то водосточный желоб и есть Дунай. До этого места к докладу невозможно придраться. Если ходить по берегам реки в разных местах и в разное время, указывая пальцем на воду и всякий раз повторяя «Дунай» (логик Куайн, которому мы обязаны теорией очевидного определения и повторяющихся попыток доказать очевидное, приводил в качестве примера Каистр), можно установить идентичность Дуная. Вне всякого сомнения Дунай существует, и в этом нет ничего непоследовательного: раз Амедео, пыхтя, карабкается по склону и указывает пальцем (беспрерывно твердя: «Дунай!») на исток Брега, на питающий этот исток луговой ручеек и на питающий ручеек водосточный желоб, то желоб и есть Дунай.
Но кто же питает водосточный желоб, какое затаившееся, невидимое взгляду речное божество? В этом месте все построения Амедео рассыпаются, ибо наш ученый сдается перед неточностью сплетни, пересказывает чужие разговоры. Он сообщает, что Мария Джудитта, раньше других дошагавшая на своих длинных ногах до дома и заглянувшая в окно комнаты первого этажа, расспросила старую угрюмую хозяйку и узнала от нее, что вода попадает в водосточный желоб из раковины, которая постоянно наполняется из крана; кран этот никто не может закрыть, а связан кран «со свинцовой трубой, наверняка такой же старой, как дом, и уходящей неизвестно куда».
Дилетантский характер подобных соображений не требует комментариев. Он напоминает сочинения об истоках Нила, написанные отважным капитаном Джоном Спиком, которые, по мнению его соперника Ричарда Бертона, а также авторитетного и предвзятого члена Королевского географического общества Джеймса Маккуина, опозорили географическую науку. Наш ученый, привыкший проверять все экспериментальным путем, даже не потрудился проверить, существует ли названный кран, о котором он узнал от той, кто, в свою очередь, только что услышала о нем от другого человека; насколько этот человек достоин доверия — лучше и не задумываться. Еще Геродот доверял только тем, кто видел все своими глазами; а не повторял полученные от других сведения. Возможно, Амедео отвлек вопрос, который выкрикнула ему вслед немного отставшая от спутников прекрасная белокожая Маддалена: «А что будет, если кран закроют?» Видимо, картина переживающих засуху Братиславы, Будапешта и Белграда, картина огромного русла пересохшей реки, открывающего взору груды старого барахла и костей, направили мысли Амедео в метафизическое измерение случайности и сослагательного наклонения. Что произойдет там, если что-то случится здесь? Конечно, ничего, но все же…
4. Моралисты и землемеры у истоков Брега
Во-первых, никакого крана нет и в помине. Повторить пройденный Амедео путь несложно. Я спускаюсь на несколько метров, отделяющих мою скамейку от истока Брега, и шагаю вверх по лугу по направлению к дому, чувствуя, как промокают носки и ботинки. Вода поблескивает среди травы, ручей спокойно журчит, зелень деревьев ласкает глаз, их аромат ласкает нюх. Путешественник чувствует себя немного нелепым, смешным и признает объективное превосходство окружающего пейзажа. Неужели текущие по лугу ручейки — это Дунай, река, про которую говорят в превосходной степени, бассейн которой 817 000 квадратных километров, которая ежегодно выплескивает в Черное море двести миллиардов кубических метров воды? Льющийся несколькими сотнями метров ниже ручей стремительно бежит, сверкает и вполне заслуживает эпитет «чуднотекущий», которым Геродот наградил Истр.
Шаги по направлению к дому — как написанные на листе бумаги фразы, нога пробует пропитанную водой почву и обходит лужу подобно перу, что огибает и пересекает белое пространство листа, стараясь не делать остановок, обусловленных волнением сердца и мыслей, и продолжая движение, — остановка подобна случайной капле чернил, странник притворяется, будто преодолел препятствие, хотя на самом деле он его обошел и теперь оно осталось у него за спиной — непобежденное, скользкое. Занятие писательством должно походить на эти текущие среди травы воды, однако застенчивая и в то же время неиссякаемая свежесть источника, тихая, несущаяся вспять песнь жизни больше напоминает задумчивый, глубокий взгляд Маддалены, чем мутную сухость письма, проводника воды, столь часто распределяемой несправедливо.
Душа убога, укорял себя Кеплер, она прячется в уголках литературы, вместо того чтобы исследовать божественный замысел творения. Тот, кто доверяет одной бумаге, в конце концов может обнаружить, что превратился в силуэт, вырезанный из тонкого листа, трепещущий и сгибающийся от дуновения ветра. Путешественник и жаждет ветра, приключений, бешеной скачки к вершине холма; подобно великому математику Кеплеру, он жаждет обнаружить замысел Бога и законы природы, а не только собственную идиосинкразию, ему хотелось бы, чтобы небольшой подъем к дому превратился в победное шествие, подобно тиграм Момпрачена, что шагают вперед под вражеским огнем завоевывать или освобождать родную землю. Но ветер дует ему не в лицо, а в спину и уносит прочь, вдаль от родного дома и обетованной земли. И тогда путешественник углубляется в чащу собственных аллергий и декомпенсаций, надеясь, что в просветах между ними, напоминающих просветы в кулисах театра обыденной жизни, есть хоть немного дыхания, дуновения настоящей жизни, скрытой за ширмой реальности. Тогда литературные маневры оказываются стратегией, позволяющей защитить скверно залатанные прорехи в далеком занавесе, воспрепятствовать тому, чтобы малые вихри и вовсе исчезли; как говорил монсеньор делла Каза, жизнь писателя — это состояние войны.
Читать дальше