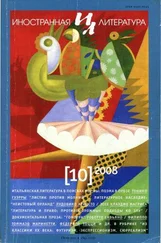Жан-Поль любит настоящее, которого часто ждут и которое оплакивают, когда оно еще является будущим или уже стало прошлым, но презирают и бездумно тратят, пока оно остается настоящим. Это чистое настоящее не существует во времени, которое уничтожает его всякий миг; оно существует вне времени, а значит, вне жизни, в разреженной атмосфере воспоминаний и сочинительства. В романе «Квинтус Фикслейн» сказано, что дым поднимается над нашим существованием, которое растапливается и кристаллизуется, подобно парам сурьмы, рождая новые цветы радости — цветы поэзии, образы, которые литературное творчество добывает из постепенно исчерпывающейся жизни. Свет вырванного у ничто нематериального пространства, на вогнутых стенах которого отражаются образы сердца, падает на конкретную реальность и превращает домашний уют в «выкроенную из свода вселенной комнатушку». Семейная идиллия, с нежностью воспетая Жан-Полем, приобретает космические размеры, а домашняя эпика (супружеская любовь, домашние хлопоты, счастливый день, колыбель и гроб) прилепляются к ткани бесконечности и врастает в нее. Прислушиваясь к уходящему времени, биограф Марии Вуца различает «ничто нашего существования» и клянется «презирать столь малозначительную жизнь, заслужить ее и насладиться ей».
Всякое путешествие, как и наш путь до Диллингена, есть сопротивление утрате, ибо путешествуют не ради того, чтобы добраться до конечной точки, но путешествия ради, в наших промедлениях пробивается свет чистого настоящего. Кто же на самом деле отправляется в путь? Рассказывая о том, как он сочинял вступление к биографии Квинтуса Фикслейна, Жан- Поль признается, что однажды, путешествуя, познакомился с начальником Управления изящных искусств и, разговаривая с ним, выдал себя за Фикслейна, своего персонажа. Впрочем, возможно, не только Жан- Поль, но и всякий, кто пишет, фальсифицирует самого себя, приклеивает с ненаигранной искренностью, добровольно идя на подмену, личное местоимение «я» другому человеку, на самом деле идущему своей дорогой. Кто же шагает нынешним неповторимым вечером в сторону Диллингена не по тропинке, а по пути, который в это мгновение перо прочерчивает на бумаге? Доверяющий собственную судьбу бумаге становится патетичным эпигоном Кафки: ухватившись за ручку двери и собираясь войти в комнату любимой женщины, как Кафка собирался войти к Милене, он разжимает пальцы и возвращается назад, к своей науке картографии.
Герои Зингера не поворачивают назад, а невозмутимо входят в комнату, потому что не страшатся встретиться с жизнью и не боятся оказаться не на высоте; они без высокомерия принимают час победы, без тревоги — час поражения: в их свободных телах скрыта глубокая уверенность в том, что и победа, и поражение повинуются закону необходимости, словно прилив и отлив. Тот, кто подобно Дзено [34] Главный герой романа Итало Звево «Самопознание Дзено» (1923).
и Йозефу К., страшится поражения и не способен его принять, прячется в литературе, среди складок бумаги, позволяющих играть с призраком поражения, обходить его, не подпускать его близко и одновременно заигрывать с ним, обхаживать его и одновременно отсрочивать встречу. Литература спасает от нехватки чего-то благодаря тому, что она переносит это что-то на бумагу, воруя его у жизни, так в жизни оказывается еще больше пустоты и недостатка. Жан-Поль говорил, что писатель хранит свои познания и мысли в написанном: сожги кто-нибудь его бумаги, он все потеряет и ничего не будет знать; бродя по улице без записных книжек, писатель оказывается дураком и полным невеждой, «бледным силуэтом и копией собственного «я», его представителем и curator absentis [35] Тот, кому поручено заботиться об имуществе отсутствующего лица (лат).
».
Впрочем, бумага добра, она учит смирению и раскрывает глаза на пустоту «я». Тот, кто написал страницу, а через полчаса, ожидая трамвай, вдруг понял, что не понимает ничего, даже того, что он сам написал, учится видеть собственную малость и осознает, думая о бесполезности собственной страницы, что всякий, буквально всякий из нас принимает собственные домыслы за центр вселенной. Возможно, он ощущает себя братом множества людей, которые, как и он, тщеславно полагают, будто принадлежат к избранным душам, в то время как их пороки толкают их к погибели, и внезапно осознает, насколько глупо в общем потоке людей, спешащих, расталкивая друг друга, к пустоте, наносить друг другу раны. Писатели составляют тайный всемирный орден, масонское братство, Ложу глупости; не случайно многие писатели, от Жан-Поля до Музиля, сочиняли похвалы глупости и размышляли о ней.
Читать дальше