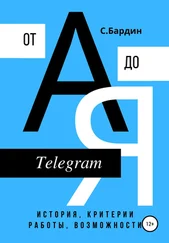— Доктор… — увидев меня, с надеждой пролепетал Куртшинов, и в этом его дрожащем голосе было столько прощения, что я, тут же забыв, что этот человек был раньше мною презираем, кинулся спасать его. Я остановил кровотечение, наложив повязку на грудь. Водитель «скорой» фарами освещал мне пострадавшего, и я легко попадал иглою в вены. Я сделал ему все, что мог. У меня не было даже мысли не помочь ему. Он смотрел на меня с рабским подчинением. Сознание не покидало его. Меня поразили его глаза, в них столько было глубокомыслия, и тогда я понял, что он не беден и у него есть душа. Пусть маленькая, величиной с дробинку, но все же есть. Фельдшер, став коленями на снег, то и дело давал ему кислород. Я ввел ему все обезболивающие, какие только были в моей сумке и сумке фельдшера. И, наверное, благодаря их действию он с превеликим трудом произнес:
— Доктор, а я не думал, что вы такой… — и захрипел, и забился в судорогах, точно падучая на него напала. Какой-то мужик произнес мне на ухо:
— Да что вы с ним возитесь, не понимаете, что при такой кровопотере ему все равно кранты…
Но я даже не посмотрел на него. Игла была в вене, и вслед за тонизирующими средствами я вводил сердечные.
Минут через пятнадцать приехала милиция. А вслед за ними из района примчалась реанимация. Внушительных размеров доктора из реанимационной бригады похвалили меня за решительные действия и, тут же подключив к больному две капельницы, осторожно перенесли его в машину и уехали.
Я остался с милицией. Колючий трос, натянутый между двумя деревьями, как висел, так и продолжал висеть. От примерзшего снега он был почти весь перламутрово-белым, лишь посередине заляпан кровью.
Мне жаль Куртшинова. Жаль и ребят, которые все это подстроили. Рано или поздно их найдут.
Но не об этом думал я, сидя в движущейся машине. Меня волновали причины этих событий. Мало того, мне казалось, что если бы многое было пресечено раньше, то горьких, точнее трагических, случаев могло и не быть.
Снег за окном шел густо. И большие сугробы возрастали не по часам, а по минутам. Красиво зимой в нашем поселке. Но мне было не до красоты. Вдруг вновь появилась боль в сердце, мне стало муторно, затошнило и, тяжело задышав, я прислонился к салонному стеклу.
— Доктор, что с вами?.. — произнес настороженный фельдшер, подсаживаясь ко мне. И, торопливо нащупав на моей руке пульс, стал определять его качество.
— Сердце болит?.. — спросил он.
— Да, словно кто кинжалом расковырял, — промычал я с трудом сквозь зубы. Боль не отпускала, сжимала тисками.
— Не дай бог, инфаркт на ногах… У меня раз было такое, — затараторил он и, открыв сумку, стал быстро набирать лекарство. — Я видел, как вы с этим типом возились… Вот небось и перегрузились. Поймите, да этому гаду, наоборот, надо было воздух в вену. А вы….
Он еще что-то говорил. Но я не слушал его. После его укола мне немного полегчало, хотя боль все равно не отпускала. За окном была снежная неподвижность. И тишина, да-да, та самая, Иванова тишина. Это единение человека с природой, которое обычно бывает летом, теперь покоряло и меня. Идет летний дождик, затем внезапно и резко мелькнет молния, ударит гром, и тогда уже кажется, что бесцеремонности грозы не будет конца. Но вдруг, словно по чьей-то воле, неожиданно стихнет она. Как и внезапно возникнет и наступит необыкновенная, послегрозовая царственная тишина. Все вокруг наполнится ею. Таинственная, легкая, свободная, она вдруг покорит тебя какой-то, своей летней крепостью, даст силы приподняться, чтобы унести тебя в далекую, мирную русскую высь. И не надо мне тогда ничего на свете, только бы была жива на свете эта святая тишина.
И сейчас ощущение мое было таким, словно я отключился от всего на свете. Я не чувствовал тела. В эти минуты я ощущал свой дух, свою душу. Я победил сам себя. Я не воспламенился жаждой отпора. Я был добр с моим врагом.
— Надо уметь прощать… — сказал я тихо фельдшеру. И тот, заметив, что мне стало лучше, приободрился.
— Ну с этим мы с вами завтра разберемся… — засмеялся он. — А сейчас я вам ноги одеяльцем укутаю… А то после укольчиков в любой момент озноб может начаться…
— Понимаете, у каждого человека есть душа… — продолжил я. Но фельдшер не слушал меня. С какой-то необыкновенной тревожной для него торопливостью он о чем-то разговаривал с водителем.
Юрий Вяземский
Цветущий холм среди пустого поля
Исповедь и письмо
I
— Понимаете, еще до того как она появилась, я уже почувствовала ее, раньше самого Аркадия… Нет, это не было ощущением чужого присутствия, узнаванием соперницы, вторгшейся в мою жизнь и вставшей между мной и моим мужем, — я лишь потом сформулировала для себя, что у Аркадия есть другая женщина… Как бы это точнее выразить?.. Представьте себе: вы летите в самолете, и вдруг самолет начинает падать, а вы, еще не успев ужаснуться, думаете: господи, я столько раз читала о том, как это бывает. А вот теперь это происходит со мной. Не может быть!.. Я поняла, что все теперь бесполезно: хочешь — кричи, хочешь — молись богу, хочешь — вспоминай свою жизнь; все равно рано или поздно наступит этот страшный последний удар. Потому что все кончилось уже тогда, когда самолет начал падать.
Читать дальше