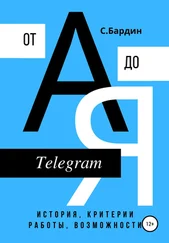Лидия Васильевна на первом уроке сказала: «Ребята, у нас новенькая, Дуся Паринова». А Люба поправила ее: «Ева». По классу прошел шум, кто-то шепнул: «Дуня»; кто-то подхватил: «Дуся»; кто-то сказал: «Барыня». Глупые, бедные, бедные дети, как они кривили рты, хихикали и оглядывались на меня. Девочки бросались драться на ближайших мальчишек, чтобы защитить меня, свое экзотическое достояние. Лидия Васильевна прикрикнула: «Тихо!»
Он не оглянулся.
«Дуню» сразу забыли, но осталось прозвище Барыня, обязательное по правилам детства.
«Барыня, дай списать!» — «На».
Никогда не просил списать Толя: отличник. И еще Павлуха Каждан: гордый двоечник, цыгановы глаза — я однажды оглянулась на их упорный взгляд. Лидия Васильевна хотела «прикрепить» его ко мне по русскому языку. Он покраснел так, что налились глаза, и зло ответил:
— Принести кнопки для прикрепления?
— Не дерзи, — ответила Лидия Васильевна. — Ничего тут обидного нет, просто будешь учить уроки с Евой, будешь ходить к ней домой. Дома у нее прекрасные условия.
— Это я сам буду решать, к кому мне ходить домой, — сказал Павлуха.
— Твое дело, Каждан, можешь оставаться двоечником, — обиделась Лидия Васильевна.
Я так думаю, она его понимала.
Только бы не оглянулся Толя. Я смотрела сбоку на его разогретый от окна румянец, и меня тянуло дотронуться до его щеки — только кончиком пальца, чтобы ничего в нем не повредить. На перемене я подходила к Гале, которая сидела за ним на второй парте, спросить что-нибудь, а сама тайком разглядывала вблизи пушок на розовой коже и впрыснутый просвечивающий румянец. Нежные пятна розовой крови… Глядя на них, я медленно запутывалась в каких-то невольничьих тропиках, в заколдованном мареве — и было ясно, что никто до меня здесь не был, никто из тех, кого я знаю, и названия для этого не найти.
Любовь — такое слово было: позорная дразнилка вроде моего несчастного имени Дуня — оно не годилось. Со мной случилось что-то другое, внеязычное, и я чувствовала с испугом, молча, догадываясь: это моя избранность, моя исключительная судьба, не видимая никому. И я хранила ее в тайне, чтобы никто не позавидовал мне.
Пресветлая осень поспела, осыпалась, устелила школьный двор желтыми листьями. На переменах грызли початки вареной кукурузы, мальчишки гонялись за девчонками по шуршащему двору, чтобы дергать за косы, и за мной гонялись с особенным пристрастием, привлеченные, как пчелы неуловимым запахом, тем счастьем, которое монопольно копилось во мне и зрело для будущей жизни. Это я так догадывалась. Потом оказалось, что просто у меня были длинные косы, и я была новенькая.
Толя Вителин не бегал на переменках, не гонялся за девчонками, и у меня всегда оставалась власть, если захочется, бросить всех, вернуться в класс и, сколько влезет, держать его — всего, с головы до ног, как кошка мышь, — в охвате зрения. Это было то изобилие, которое только и могло пребывать в царственном центре мира, помещенном во мне. Но я боялась: вдруг он оглянется, и я поскользнусь в его глаза.
* * *
Наш саманный сельсоветовский дом оказался холодным, зимой углы промерзли, отсырели и потемнели от пятен. Он стоял на краю села, дальше шла снежная степь — вечерами после заката на сугробах лежали фиолетовые тени, и в самой близи от нашего огорода начиналось смертное единовластье холода. Голое, без лучей, зимнее солнце целые дни студило землю.
Мать, закутанная в шаль, шаркала валенками по кухне и подбрасывала в печь угля. Печь была сложена плохо — все тепло уносилось в трубу.
Бумажные кружева на полках почернели от копоти и оборвались.
— Ева, я лягу. Пойди к отцу на работу, скажи, я болею и чтоб сегодня пришел пораньше, печку топить.
Я шла. Отец досадливо морщился:
— Ну, опять… Нет-нет, сегодня никак не получится пораньше, — начинал он прикидывать в уме, увиливая взглядом. — У меня отчет. Как-нибудь там сами… Неужели так сильно разболелась? Ах ты… Ну, а ты-то что же, разве не справишься?
Я-то справлюсь. Да в печке ли дело?
В те вечера, когда отец был дома, мы ужинали в молчании, невнятно говорило или пело радио из комнаты, после ужина отец брал книгу и ложился на неразобранную кровать читать. Но минут через десять он со вздохом откладывал книжку — в ней был отряд батьки Михая и лесные партизанские подвиги — и маялся в ожидании ночи. Иногда он напивался, чтобы проскочить эту мрачную вечернюю маету, и тогда ему было лучше, а нам хуже, чем обычно. Мне представлялось: мы вслепую ползаем на четвереньках под низкими темными сводами, и из подземелья этого никому нет выхода, кроме меня. Мне нужно только потерпеть и подождать: я вырасту, и для меня наступит настоящая жизнь.
Читать дальше