А сейчас надо думать о чем угодно, только не о женщине. С тех пор как я попал в заключение, почти в каждую свободную минуту в голову мне лезли мрачные навязчивые мысли, и я старался вытеснить их с помощью решений мною же выдуманных задач. Обычно я воображал себя снова ученым-конструктором, поставленным перед необходимостью совершить то, что еще никому не удавалось. Это было настольно увлекательно, что иные задачи я решал месяцами, даже когда носил мешки или ворочал в лесу баланы. То, что не было никаких пособий, даже бумаги и карандаша, было даже хорошо, так как еще более затрудняло решение. Правда, несмотря на такую тренировку, в памяти постепенно стирались необходимые формулы и схемы, уходила способность удерживать в голове вереницы математических знаков. Впоследствии я утратил такую способность вообще.
Но сейчас дело было даже не в этом, а в том, что я просто не мог заставить себя изобретать очередную схему действия какого-нибудь электронного прибора или обдумывать интересный экспериментаторский прием. Их место в моем воображении неизменно вытесняло знакомое женское лицо, то ласковое, то испуганное, то печальное. Раньше я иронически улыбался, читая о страданиях какого-нибудь монаха, тщетно боровшегося с «бесовским наваждением». Теперь, кажется, я начинал понимать, что это такое.
Особенно трудно бороться с желанием увидеть Кравцову мне стало после того, как меня выписали из больницы на амбулаторное лечение. Теперь я жил в своем бараке и ходил на перевязку и в лагерную столовую, опираясь на толстую палку, вытесанную для меня знакомым плотником. Я твердо решил, что в течение месяца, который мне предстояло еще сидеть в зоне, я буду избегать встречи с Кравцовой. А если такая встреча случайно произойдет, то буду почти официально сух. Это, наверно, ее обидит. Что ж, тем лучше. Я должен действовать почти в соответствии с духом евангелического наставления: «Если глаз твой смущает тебя, вырви его и выбрось!»
Во время обеденного перерыва в бригадах, когда те, кто работал в пределах главной усадьбы совхоза, приходили в лагерь на обед, я угрюмо сидел в бараке, борясь с желанием выйти из него и высмотреть, когда в зону войдет бригада засольщиц рыбы — в этой бригаде работала теперь Кравцова. Я плелся в столовую только тогда, когда засольщики снова уходили на работу. На ужин я ходил до того, как работяги возвращались в лагерь. В том, что это мое поведение будет разгадано и сможет даже оскорбить женщину, я не сомневался.
Кравцова, однако, оказалась выше мелочной обидчивости. Однажды, когда я, как всегда, уже после ухода работяг зашел в столовую, за одним из «женских» столов — они стояли немного в стороне от «мужских» — я увидел ее, сидящую с перевязанной рукой. Вероятно, она растравила себе руку «тузлуком», очень концентрированным раствором соли, и была освобождена от работы. Работа на засолочном пункте называлась здесь «соленой каторгой». По двенадцать часов в день засольщицы хлюпались в едком тузлуке, охлажденном до температуры ниже нуля, наживая себе ревматизм на старость и язвы на руках.
Я не ожидал этой встречи и остановился в смущении. А она, тоже смущенно и как-то робко улыбаясь, подошла ко мне и взяла за руку свободной от перевязки левой рукой.
— Вот я вас и поймала наконец, дорогой мой монашествующий рыцарь!
Я ответил на рукопожатие, глядя куда-то в сторону. Народу в столовой почти не было, всего два-три освобожденных от работы по болезни. Не было и дежурного надзирателя, он был занят выпуском на работу последних из отобедавших бригад. Мы присели за один из пустых столов, оба чувствуя себя в ложном и неловком положении. Я — из-за своего стремления убежать от общения с женщиной, которого в действительности страстно желал; она — от ощущения этой моей внутренней раздвоенности. Но, видимо, роль инициатора нашей встречи Кравцова решила выполнить до конца, хотя в жесте, которым она положила свою здоровую руку на мою, чувствовалась робкая нерешительность. Маленькая, с покрасневшими от вечного холода и едкого рассола пальцами, эта рука отчетливо выделялась на моей, довольно крупной и ставшей почти белой от без малого двух месяцев безделья:
— Бедненький вы мой! Ну разве стоило так страшно рисковать только для того, чтобы сказать грубому человеку, что он груб?
Но глаза Кравцовой, глядевшие на меня с ласковой признательностью, говорили, что стоило. Это ведь такая редкость теперь — рыцарское поведение мужчины ради женщины. А если оно связано еще и с реальной опасностью для него, то вызывает тем большее восхищение женщин, чем дальше отстоит от здравого смысла. Смысл существует и в иной бессмыслице.
Читать дальше
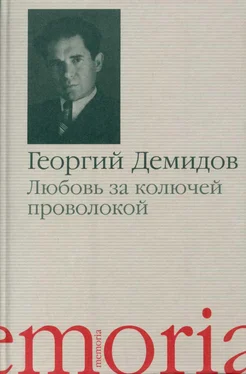

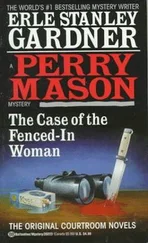


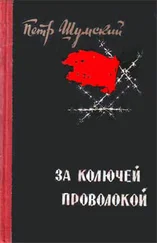
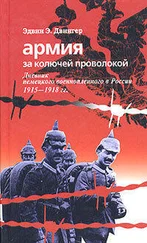

![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)