— Не смей бить женщину, негодяй, сволочь наемная, попугай безмозглый! — дрожа от злости, я выкрикивал самые оскорбительные слова, придуманные лагерниками для бойцов вооруженной охраны, вроде того же «наемного солдата».
Сначала охранник опешил от неожиданности. Но он и сам был до краев налит раздражением и злостью, и через несколько секунд лицо вохровца исказилось выражением ответной ярости. Отступив шага на два назад, он наставил на меня примкнутый к винтовке штык и рявкнул:
— Отойди, убью!
В такой обстановке подобная угроза никак не была пустой. Но и этот штык, и вид кабаньих глазок, сверкающих из-под нахлобученного до самых бровей брезентового капюшона, только подлили масла в огонь. Окончательно потеряв самообладание от ненависти к этому оскорбителю милой и кроткой женщины, я ухватился за конец штыка, отвел его в сторону и изо всех сил пнул солдата ногой в живот. Он рванул винтовку к себе, а я перехватил обеими руками ее цевье. Между нами началась свирепая возня, напоминающая борьбу мальчишек. Но продолжалась она недолго. Я почувствовал тупой, как мне показалось, толчок в левую сторону живота и вслед за ним острую пронзающую боль. Это меня ткнул штыком второй вохровец, прибежавший на помощь своему товарищу.
Боль обладает отрезвляющим действием. В одно какое-то мгновение я понял дикое безрассудство своего поведения и увидел все окружающее чуть ли не с повышенной отчетливостью. Конвоиры продолжали направлять на меня свое оружие, хотя я стоял перед ними уже полусогнувшись, прижимая обе руки к ране, из которой под мокрой, холодной одеждой стекало вниз что-то теплое и липкое. В небольшом отдалении я видел множество женских лиц и среди них одно с испачканным грязью лбом и округлившимися от ужаса глазами. Медленно оседая на подкашивающихся ногах, я упал сначала на колени, а затем повалился набок в блестящую жирную грязь. Сознания, однако, я не потерял и помню, как от вахты прибежал дежурный и что-то кричал на заключенных, размахивая руками. Затем принесли носилки, и я поплыл на них среди множества людей, глядевших на меня кто с укоризненным сочувствием, кто с соболезнованием, кто просто с жадным любопытством.
В лагерной больнице Балаганных я пролежал со своим ранением меньше, чем можно было бы ожидать, всего месяца полтора. Штык не проник особенно глубоко. Его ослабила бывшая на мне толстая ватная броня бушлата и телогрейки. Она-то и создала в первое мгновение впечатление тупого удара.
Дела о нападении на бойца охраны на меня не завели, хотя и могли бы это сделать. Но лагерное и конвойное начальство даже в более свирепых лагерях, чем наш Балаганных, не любит выносить конфликты между заключенными и охранниками за пределы зоны, если только дело не доходит до прямого убийства. Судебное разбирательство, которое существовало в лагерных трибуналах того времени, заставляло в какой-то степени выносить сор из избы. А он, этот сор, почти всегда выглядел весьма неприглядно. Конечно, я был бы непременно признан виновным и осужден на дополнительный срок. Но объясняя свое поведение, я бы ссылался на избиение вохровцем ни в чем не повинной заключенной. Нет уж, лучше обходиться своими средствами, набор которых в лагере достаточно широк. Что касается моего случая, то, не причинив вохровцу почти никакого вреда, сам я едва не был убит. Во всяком случае, имелись все основания считать, что наказан я сполна.
Находясь в больнице, я получил через санитарку-заключенную записку от Кравцовой.
«Милый мой, дорогой мой рыцарь, — писала она в этой записке. — Пока я не узнала, что ваша рана не опасна для жизни, я почти до сумасшествия беспокоилась за вас. Я бы никогда не простила себе вашей гибели или увечья, хотя и знаю, что ни в чем не виновата. Скорее выздоравливайте, очень хочу вас видеть».
Означала ли эта записка, что Юлия — в мыслях я давно уже называл ее только так, хотя при встречах она была для меня Юлией Александровной, — испытывает ко мне нечто большее, чем простая благодарность за рыцарское поведение? Я одновременно и хотел этого, и боялся. Если в ней возникает такое же влечение ко мне, как у меня к ней, то наши желания, перемножившись, станут неодолимыми. И тогда прости-прощай спокойное монотонное лагерное существование — работа, еда, сон, подъем, опять работа. За нами будет установлена лагнадзорская слежка, нас окутает со всех сторон грязная лагерная молва, жить мы будем в тоскливом ожидании разлуки, которая последует весной, как только откроется навигация. Держать в смешанном лагере нарушителя монастырского устава с первой категорией труда, контрреволюционной статьей, да еще кидающегося на охрану, никто не станет. И я пытался уверить себя, что никакой я не рыцарь, пренебрегший смертельной опасностью ради чести своей дамы, а просто сорвавшийся в припадке истерической злобы зэк. А мое постоянное желание видеть Кравцову, беседовать с ней, чувствовать прикосновение ее руки — блажь, усиливающаяся на больничном ничегонеделании. Она пройдет, как только рана затянется окончательно, и меня отправят в бригаду лесоповальщиков, в которой я постоянно числюсь. Там возня со стокилограммовыми лиственничными баданами в снежных сугробах, да еще на пятидесятиградусном морозе быстро вышибет из меня мечтательную дурь. А главное, что не будет ни соблазна, ни возможности встретиться с Кравцовой: лесная подкомандировка совхоза в паре десятков километров от главного лагеря.
Читать дальше
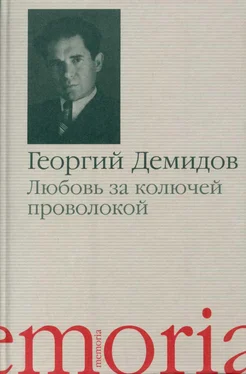

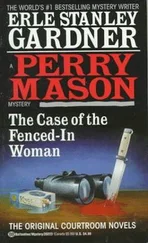


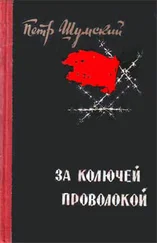
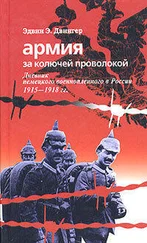

![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)