Для Нины наступила пора открытий. Настоящим открытием стала для нее генетика, оказавшаяся наукой, которой стоит посвятить жизнь. Понсо вошла в состав студенческой группы, руководимой Комским и занимавшейся генетикой более углубленно, чем остальные ее сокурсники. Она освоила искусство препарирования под микроскопом и часто помогала своему учителю в лаборатории. Прочла всю литературу по генетике, которую только могла достать. Читала она и публикации «мичуринцев», содержавшие не столько аргументацию в пользу их взглядов, сколько глухие угрозы в адрес «морганистов». Оказалось, что и в середине двадцатого века надо обладать иногда немалым мужеством, чтобы не отступить от своих научных взглядов, причем явно прогрессивных и отчетливо аргументированных. Это было ее вторым открытием.
А третьим было то, что она стала испытывать к своему руководителю не просто уважение и робость ученицы, а нечто гораздо большее. Иначе почему бы, когда он обращался к ней с вопросом на семинаре или подходил к микроскопу, за которым она работала, сердце билось так громко, что Нина боялась, как бы он этого не услышал. Это была явная влюбленность, ставшая для Нины открытием, ее испугавшим. Она запрещала себе влюбляться даже в своих сверстников, чтобы не поставить себя в унизительное положение физически неполноценной калеки, безнадежно домогающейся чьей-то любви. Комский же был старше ее лет на двадцать и к тому же слыл ученым сухарем, за занятиями своей наукой позабывшим даже жениться. Потом она узнала, что он не так уж чурался женщин и далеко не всех их держал на расстоянии.
Состояние Нины походило на мучительную и заразную болезнь, которую приходится ото всех скрывать, а тщательнее всего от Комского. Правда, углубленный в свою науку, он не очень-то присматривался к своим студенткам, и тем более не интересовался их внутренними переживаниями. Временами Нина ловила себя на том, что и она, в глубине души, ругает его сухарем. Но потом ей становилось стыдно своей несправедливой злости. Ну какой же он сухарь, этот увлеченный своим делом, а то и горящий вдохновением человек!
Заканчивался предпоследний для Понсо учебный год, за которым после каникул следовали месяца три занятий на факультете, преддипломная практика и сдача госэкзаменов. Нина очень надеялась на лето, которое она проведет у мамы. В течение этих месяцев она не будет видеть Комского, и обуявшая ее блажь, наверное, пройдет. Тогда она сможет общаться с ним не как млеющая от обожания институтка, а как советская студентка-комсомолка и, возможно, его будущая сотрудница. А всякие там мечтательные завихрения и несбыточные надежды останутся в институтском прошлом.
Но находясь на каникулах, Понсо узнала, что вейсманизм — моргинизм, и до сих пор едва терпевшийся в советской науке, объявлен ее злейшим врагом. Даже в общей печати публиковались статьи, объявляющие его последователей едва ли не агентами мирового империализма. Ходили слухи об аресте ряда выдающихся советских биологов. Нина по-настоящему испугалась, что подобная участь может постичь и Комского. При возвращении на занятия ее страхи подтвердились. Говорили, что если апологет хромосомной теории Комский не раскается в грехе вейсманизма, то головы ему не сносить. Никакого научного спора между передовой советской наукой и теми, кто примкнул к лагерю буржуазных лжеучений и мракобесов, быть не может. В лучшем случае, при условии их полного «разоружения», эти еретики от биологии могут отделаться общественным шельмованием, как один из молодых ассистентов на биофаке, слезно каявшийся в ереси морганизма и заявивший на общефакультетском собрании, что он впал в эту ересь под влиянием Комского.
А вот сам Комский, по-видимому, и не думал разоружаться. На своих лекциях и лабораторных занятиях со студентами он вел себя так, как будто решения Академии наук о сущности вейсманизма-морганизма вовсе не было, и это учение так же дозволено, как и теория естественного отбора. Студенты-старшекурсники знали, что крамольного доцента не раз прорабатывали на кафедре, что с ним велись душеспасительные беседы, но что все это — зря. Комский продолжал свои опыты с хромосомами и говорил о них как о вместилище клеток наследственности с их генами! Хотя само это понятие было проклято ныне официальной советской наукой. И внешне он держался по-прежнему. Только запавшие глаза доцента и его обтянутые кожей скулы выдавали, чего ему это стоит. Студенты знали, чем все это, почти наверняка, кончится. Большинство из них лекций Комского более не записывали: все равно и то, что было записано ранее, придется выбросить. Кое-кто начал держать себя на занятиях развязно, а некоторые задавать лектору провокационные вопросы и затевать дискуссии вроде той, которую затеял «главный комсомолец» студенческой группы. Кончалось для них это почти всегда так же плачевно, как и для комсорга. Комский был не только эрудированным ученым, но и находчивым полемистом. Поэтому от таких выпадов стали воздерживаться, но слушали вполуха, перешептывались, девчонки хихикали.
Читать дальше
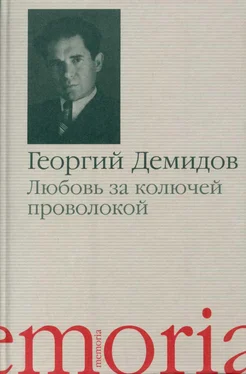

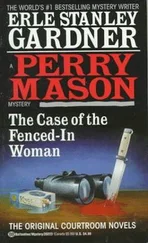


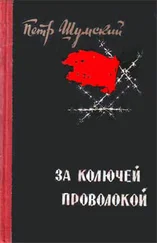
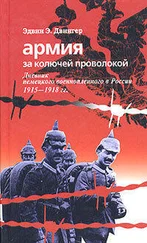

![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)