Эти слова, в числе многих других доказательств контрреволюционности настроений бывшего доцента, припомнил ему прокурор на суде Специальной Коллегии. Ни этот суд, ни предварительное следствие не испытывали недостатка в информации о его зловредной деятельности. А еще спустя полгода злостный морганист-вейсманист-менделист, в составе семи тысяч таких же подневольных пассажиров парохода «Джурма», плыл по Охотскому морю к берегам негостеприимной Колымы. С пересылки в порту Нагаево он, как особо опасный преступник, был отправлен в отделение № 17 Берегового лагеря. То, что именно в это отделение, было для начинающего каторжника большой удачей. Во всех прочих отделениях колымского спецлага условия жизни и работы заключенных были куда более тяжелыми. Комского навязали омсукчанскому заводу в качестве довеска к бронзолитейщику из Харькова, отливавшему при оккупантах подшипники для вражеских танков. Но так как ученый-биолог не знал ни инженерного дела, ни какого-нибудь полезного ремесла, то его определили в бригаду «куда пошлют». Бывшему доценту вручили атрибуты его новой профессии: кол для «подваживания» неподъемных тяжестей, по-лагерному — дрын, лопату и метлу. Здесь же Комский получил и свой личный номер Е-275, который каждый мог считать с его бушлата, телогрейки, штанов и шапки. Работягой Е-275 оказался угрюмым и молчаливым, зато безотказным и не таким уж слабым. Поэтому его чаще всего наряжали на такие работы, как погрузка и разгрузка с машин станков и крупного металлолома, разборка этого металлолома вручную и перекатка из цеха в цех тяжелых болванок. Доцент никогда не возражал и не просился на более легкую работу. Ломовой труд имел свои преимущества. Они заключались в том, что днем тяжелая работа отвлекала от еще более тяжелых мыслей, а ночью эти мысли гасила усталость.
Ужасов недавнего времени в колымских лагерях, тем более в лагере, обслуживающем завод, уже не было. Ушла в прошлое смертельная штрафная пайка. При любом выполнении и на любой работе заключенный, даже каторжанин особлага, получал гарантийные восемьсот грамм хлеба. Лагерному начальству было запрещено продлять рабочий день лагерников по своему произволу. В общих лагерях он был ограничен десятью часами, в специальных — двенадцатью. В Берлаге, правда, без выходных.
Для бывшего доцента, не ставшего профессором одного из старейших университетов страны только из-за своей непокладистости, потянулись дни заключения, медленные и тягучие каждый в отдельности, но казавшиеся прошедшими непостижимо быстро, когда они складываются в месяцы и годы. Этот тюремный парадокс времени объясняется очень просто. Способность к непосредственному ощущению хода времени ограничена у человека пределами немногих суток, а может быть, и одними сутками. На больший отрезок времени его биологические часы не заводятся. Поэтому даже в ретроспективе мы оцениваем время только умозрительно. Но для всякой перспективы, прямой или обратной, необходимы какие-то отметки времени в виде событий изменения окружающей обстановки. Дни же в заключении похожи друг на друга, как лица идиотов. Как страницы жизни они могут быть уподоблены невыразительным рисункам на стекле, сделанным по одному трафарету. Сложенные в толстый пакет, они становятся от этого только менее прозрачными. Таким же тусклым и однообразным представляется арестанту-большесрочнику и его будущее. Это «дорога в никуда», на которой даже смерть представляется просто очередным шагом, последним, но ничем не отличающимся от миллионов предыдущих шагов по безрадостному пути неволи.
Правда, такое ощущение времени и своей арестантской жизни приходит к осужденному не сразу. Ему предшествуют месяцы, иногда даже годы, когда отчаяние сменяется в человеке надеждой, цепляющейся подчас за самые ничтожные и сомнительные поводы, чтобы снова смениться отчаянием. Постепенно оба этих крайних состояния духа посещают заключенного все реже, все больше сводятся к общему знаменателю безразличия и апатии. В таком состоянии и находился Комский ко времени, когда он получил письмо от своей бывшей студентки. И в его ответе Понсо не было ни позы, ни рисовки безнадежности своего положения. Он думал так, как писал.
Габриэль Понсо, сын Джузеппе Понсо — стеклодува из Венеции, почти уже не помнил о своем итальянском происхождении. Жена Габриэля Осиповича была русской, а из троих его детей только последний ребенок, дочь Нина, по внешности и темпераменту была, ни дать ни взять, бабушка — итальянка с берегов Адриатики. Оба сына пошли в мать, курносую и широкую в кости волжанку. Однако и Нина знала по-итальянски только несколько слов, которым научил ее отец. Это были, главным образом, благозвучные приветствия с красивым обращением «синьор» и «синьора». Уже в пионерские годы, узнав, что «господин» и «госпожа» слова больше буржуазного обихода, чем пролетарского, Нина заменила их не менее красивым «камараде». Ведь она была дочерью потомственного рабочего.
Читать дальше
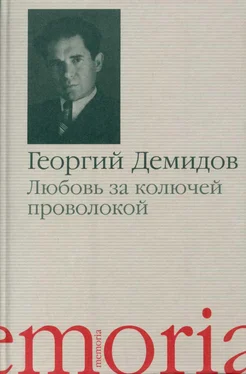
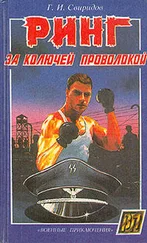
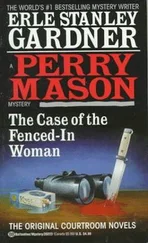


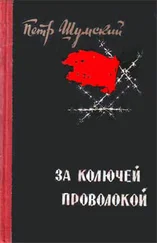
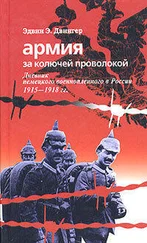
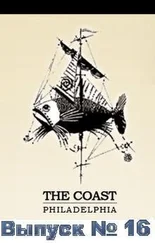
![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)